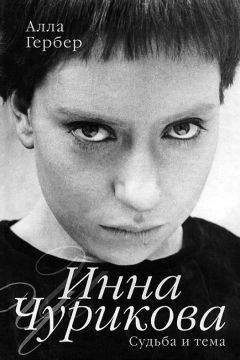В «Иванове» — танец в ней. Он — в семенящей, русалочьей походке, в этих шажках-шажочках еврейского свадебного танца. И руки все время «говорят», какую-то мелодию напевают, какие-то забытые ритуальные движения повторяют. Молят, молятся, беззвучно сникают, чтобы снова взвиться к небу в предсмертной молитве. Отпустите ее, верните в родное гнездо — и вы увидите, как полетит она в танце и… в нем же задохнется. И опять потянется (руками, телом) к любимому.
В фильме Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» («Гран при» за лучшую женскую роль на фестивале в Западном Берлине) у Чуриковой тоже есть танец. Я писала книгу задолго до выхода фильма, но этот эпизод видела еще в материале. В этом фильме Чурикова снова играет женщину, сраженную изменой, от которой любимый уходит не просто к другой, а в далекий ей мир, который она не презирает, нет, а, как всегда, хочет понять.
В ее исполнении учительница Вера — типичная потомственная московская интеллигентка, чьи родители не своей волей (о чем нетрудно догадаться) покинули и ее, и эту большую, теперь коммунальную, квартиру (действие происходит сразу после войны). Никаких ретроспекций, из которых бы мы узнали о ее прошлой довоенной жизни, в фильме нет. Это прошлое Чурикова передала не словами, а голосом. Это голос девочки, которая слышала в детстве добрые, умные голоса своих родителей. Голос школьницы, в котором звучат голоса любимых писателей, которые никогда не оставляли ее, даже тогда, когда, не исключено, оставили многие. Голос студентки, которая последней уходила из читального зала, а по дороге домой, когда уже не было дома, повторяла строки поэтов, чтобы не так страшно было возвращаться. Голос учительницы, которая не привыкла его повышать. Голос женщины, которая способна любить до самоотречения, до самопожертвования, но нет в нем жалкости и униженности, а есть бесстрашие перед унижением, страдание, но и смирение перед ним. У нее и походка той девушки, которая не бежала за всеми, а достойно шла за собой. Она кажется слабой, зябкой, беззащитной, а на самом деле вот уже сколько лет сохраняет в себе дух (душу) родительского дома. Его наследие — в ней.
И вот опять приходит беда. Другая женщина — чужая, непонятная, из другой жизни — врывается в ее дом, чтобы забрать единственно близкого человека. Она очень красива, эта женщина, шокирующе, вызывающе привлекательна. Рядом с ней Вера кажется дурнушкой. Могла бы показаться, если бы мы не успели увидеть ее в минуты счастья. Но рядом с этой женщиной Вера выглядит сутулой, неловкой, нелепой. Этаким синим чулком, безнадежной старой девой. Даже если замужем — все равно девой. Чурикова, как всегда, не жалеет себя — открывая красоту, она на глазах становится страшной, когда изнутри рвется крик беды, «вопль вспоротого нутра».
Всю жизнь Вера Чуриковой умела бороться за сохранность души, но как бороться за сохранность мужа — нет, этого она не знает. Отпустить его — умереть. Не пускать, силой держать — этому ее не учили, в ней изначально нет душевного рвачества. «Мое, не отдам!» — нет, это не для нее. Она понимает только честную, на равных, борьбу — тоже стать красивой, притягательной, соблазнительной. Но как?! И вот она устраивает совместную встречу Нового года. Приглашает мужа с его возлюбленной, которая в глаза смеялась над ней («И где ты нашел такую образину?!»), в свой дом, в котором хозяйка — ее душа. Ситуация, прямо скажем, взрывчато-опасная своей литературной недостоверностью. Но Чуриковой дано оправдать самое неестественное, убедить в невозможном. Преображенная нарядом — ярким халатом и тюрбаном, открывшим ее лицо, в котором все — глаза, она танцует перед влюбленными какой-то немыслимый, свой танец. Танец чаровницы и соблазнительницы. Танец женщины-вамп. Танец-фокус, веселую шутку, игру, забаву. Танец-любовь, боль, зов. «Преувеличенность жизни в смертный час» — такой был это танец.
Был вечер — такой, как всегда. Вечер, к которому долго идет день. Утром — уборка, готовка. Сын, который ни секунды не хочет сидеть на месте, — а кому в детстве этого хочется? И никогда при этом не слышит крика, словесных или приведенных в исполнение угроз. И только по серой бледности можно было понять, как она устала. А завтра — досъемка, потом спектакль. Восторгаться этим, восклицать по привычке: «И откуда только силы берутся!» — не буду. Берутся. У женщины, матери и актрисы они не имеют предела. Многочисленные обязанности по дому она принимает как норму жизни. Все как-то само собой — быстро, ловко, чисто.
Она любит повторять фразу отца Жанны д'Арк: «Подальше от королей, поближе к кухне». Она и правда любит кухню (хотя и злится, что кухня ее «съедает»), но рвется к «королям», чтобы потом, на земле, быть понятной каждому.
В тот вечер мы задумали лепить пельмени. И пока сын занимался любимым делом — что-то стирал под краном, мы взялись под ее руководством за дело.
— И поговорим, правда? Будем себе лепить и разговаривать. Как в юности, помните: самые задушевные разговоры — на кухне. А вы почему такая грустная? Случилось что?
— Случилось. Я вчера впервые в жизни человека ударила.
— Да что вы?! За что?!
— Он — сына, я — его. Мне показалось, что бьет, а на самом деле — просто толкнул. Но в ту секунду, поверьте, видела — бьет! Как бешеная сорвалась с места и. До сих пор руки дрожат, все время чувствую на своей ладони его мятую щеку.
— Кого — его? Почему бил? Ничего не понимаю.
— Пошли на спектакль во Дворец культуры. Народу — тьма. У дверей — контролер-«общественник». Вдруг перестали пускать в зал. Оказалось, что я по одну сторону «баррикады», сын — по другую, а билеты у меня. Вежливо объясняю: вот я, вот сын, а это билеты, оплаченные, неподдельные. Ни в какую. Толпа шумит, наступает. И выбросила сына прямо на этого контролера. Ну и.
— Мучаетесь? Да, это не метод доказательств.
— Конечно, не метод. Но где мера компромисса? Как ее вычислить? В конце концов, не вы, не я, а он решает, пускать или не пускать. Кого пускать и куда.
— Хамство, мне кажется, лишает нас выдержки, и мы проигрываем. Эмоции — всегда слабость. Эмоции и чувства — они уязвимы прежде всего. Хам это знает. Его истина крепче, здоровей, понятней. И мы разрушаемся — незаметно или… заметно. Ведь выиграл он, а не вы. Вы оказались слабее, что пошли на поводу у эмоций. Я просто физически страдаю от своей беспомощности перед хамом. Как сохранить себя? Не знаю.
— Я часто вспоминаю, как Анатолий Эфрос поставил когда-то в Театре на Бронной «Отелло». Это, наверно, как раз о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну кто такой Яго — великий искуситель, дьявол во плоти? Нет! У Эфроса он был просто жлоб, завистник, интриган, маленький человечек с непомерной амбицией. И он победил! Отелло — тонкий, умный, интеллигент Отелло — сдался. Не Дездемону он убил — себя.