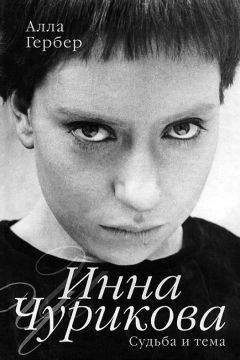— Я часто вспоминаю, как Анатолий Эфрос поставил когда-то в Театре на Бронной «Отелло». Это, наверно, как раз о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну кто такой Яго — великий искуситель, дьявол во плоти? Нет! У Эфроса он был просто жлоб, завистник, интриган, маленький человечек с непомерной амбицией. И он победил! Отелло — тонкий, умный, интеллигент Отелло — сдался. Не Дездемону он убил — себя.
— Я же говорю: истина хама крепче, доступней. Она даже может убедить, потому что у нее есть своя логика — у эмоций и чувств логики нет. Борьба с Яго утомляет, потому что у нее нет конца. Но не знаю нельзя уставать, наверно. А мне иногда кажется, что мы устали.
— Это не совсем так.
— Я сейчас нахожусь в том состоянии, когда просто играть, просто быть на сцене — нет, не могу. Мне иногда бывает стыдно за себя, за своих товарищей — за наш ложный пафос, за эту постоянную игру в игру. Вы спрашивали, где мера компромисса, — не знаю. Знаю только, что мое состояние в театре — часто цепь компромиссов. Иногда мне хочется не слышать, не видеть. Исчезнуть. И в тоже время я существую, сосуществую с этим, не моим. Я не воюю, а если воюю, то проигрываю. Я уязвима перед всеми, но прежде всего перед властью режиссера. Я должна ему верить, а не подчиняться. Нет, это все слишком мое, слишком больное. Бог с ним. Но… уставать нельзя, а иначе зачем жить? Мне вообще интересней всего не успех, не конечный результат, а сам процесс.
— Но так ли уж безразличен актеру успех?
— Да что там — конечно, нет. Не безразличен, но это потом. Вот вы, когда пишете, вы же не думаете — напечатают вас или нет.
— Хотелось бы.
— Когда поставлена точка. Но если об этом думать за столом, разве что-нибудь путное напишешь? Так и для актрисы: процесс — вот что важно!
— Быть может, самое трудное — не поддаться соблазну хоть что-нибудь, да играть? В конце концов, все мы люди.
— Но у некоторых есть повышенная ответственность… перед собой, перед своим временем.
— Сейчас появились пьесы и спектакли, из которых, по-моему, прямой выход в жизнь.
— Да, что-то появилось. Вот Петрушевская. Я должна играть в ее новой пьесе «Три девушки в голубом»[2]. У моей героини, Ирины, какая-то беспросветная судьба. В жизни так бывает, но для искусства необходим просвет. И Петрушевская его нашла. Дело не в том, чтобы переселить мою героиню в другой дом, окружить другими людьми — изменить судьбу. В конце концов, я думаю, судьба каждого человека обязательно несет в себе трагедию одиночества, даже если по внешним признакам кажется, что она удачно сложилась. Слава, успех, власть — признанные вершины удачной судьбы — все равно, по-моему, в какие-то моменты обрекают на одиночество ничуть не меньшее, чем то, которое от неустроенности жизни — ну там быт, трудные дети, несложившаяся семья. Хотя и это способно убить. Так вот, спасает, может спасти не свет в окошке, а просвет… внутри каждого из нас. Пройдя через все круги ада, моя героиня выбирается наверх потому, что она, как и Теткина, верит в красоту и благодать. И, как Теткина, не умеет это выразить словами. Как же это сыграть? У Теткиной была ее живопись. Вот Офелия — в спектакле нашего театра я ее играла — жуть какая-то, сколько в ней святости, порока, смуты. Она не с ума сошла, а в себя пришла. «Не в себе» — это и значит «в себя». Только смерть ее освободила. Помните — она в гробу с открытыми глазами?
— Это невозможно забыть.
— Я не водолаз (шучу), ноя — именно за погружение в самые глубины человека, в которых чего только нет, аж дрожь берет.
— Немирович-Данченко советовал Еланской, когда она репетировала Гертруду, поглубже забраться в себя, в такие мысли, которые даже подруге не откроешь, чтоб найти верное чувство.
— Ценный совет. Очень глубокий. Я к нему сама пришла, и шла, надо сказать, долго. Да, чего в нас только нет. Но необходим просвет. Самое прекрасное в нашей работе, когда открываешь свои маленькие «велосипеды». Особенно, когда такой принципиально новый драматург, как Петрушевская. Ее мир абсолютно узнаваемый, но и абсолютно неведомый для сцены. Его нужно сознательно возродить, но так, чтобы люди забыли, что это сцена. Мы открывали в этом спектакле свой «велосипед», отказываясь от привычной актерской палитры — открытый темперамент, выигрышные концовки, эффектные, заранее рассчитанные паузы. Здесь все по-другому. На сцене мы, наши герои, всегда вроде бы интересны зрителю. А здесь люди в прокисшем состоянии, в душевной апатии, и надо, чтобы ЭТО было интересно, это стало фактором эстетическим, фактором искусства. И вот мы нашли свой «велосипед». Мы точно не знаем, что с нами, то есть с нашими героями, дальше будет. Понимаете, нет этого сколоченного, крепкого спектакля, и потому мы постоянно зависим друг от друга, и эта зависимость очень сблизила актеров, сделала их по-человечески необходимыми друг другу. Это редко в театре, поверьте, когда после многочасовой репетиции не хочется расходиться. А нам не хотелось, никогда. На этой пьесе я полюбила своих партнеров. Они стали для меня семьей, к которой я принадлежу. Мы все, участники спектакля, стали воспринимать себя как одно целое, и это целое и есть мир автора. Автор всех любит, и нас заставила — полюбить. Любит, несмотря на неэффектный цвет карандаша, каким пользовалась, рисуя своих персонажей. Но ведь жизнь не похожа на цветные слайды с курортов Черноморского побережья. Куда труднее, по-моему, любить людей в их неприкрашенном виде, неприкаянном состоянии, научиться видеть их красоту без грима и романтической ретуши. А она любит, и потому ей не страшна их некрасивость и порой откровенная непривлекательность.
— Да, уставать нельзя.
— Это вы о чем?
— О том, с чего начался наш разговор, — о логике хама, о том, чем его можно победить.
— Чем же, по-вашему?
— Наверно, вот этой самой верой, какая есть в самой Петрушевской и в ее, а теперь и вашей, героине. Ваша Ирина тоже бесконечно устала, но в какой-то момент. Она мать — вот что дало ей силы, но силы внутренние и потому неистребимые. Ее унижают, оскорбляют, но она — не униженная и не оскорбленная. Вспомните: за всю историю человечества не было ни одного изображения мадонны, которое не излучало бы свет, внушающий нам веру в бесконечность добра и красоты. Ни одной озлобленной, издерганной, равнодушной. Ни одной, которая бы ожесточала, пугала. Даже те, которых изобразила кисть средних художников, притягивают светом любви и нежности. И это вы сыграли. Я это видела на репетиции и никогда не забуду.
— Я раньше думала: ребенок — самая сильная страсть. Я так о нем мечтала! Я люблю его больше жизни, но… не играть я не могу. Когда Жанну д'Арк спрашивали: «Зачем ты идешь к дофину?» — она повторяла: «Я должна». Корда ей говорили: «Тебя осудят люди» — она свое: «Я должна!..» Вот мы вчера с Ванечкой у соседей целый час на рыбок смотрели. Я подумала: не купить ли аквариум? И сразу отказалась от этой мысли. Рыбки, как и все, требуют времени, души. На рыбок меня уже не хватит. Но не играть я не могу.