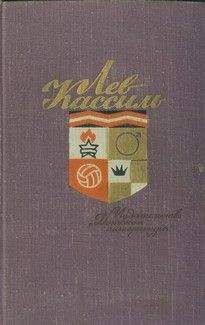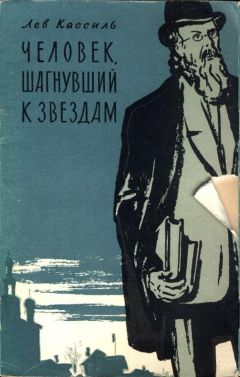Он нагоняет шагающий по улице красноармейский отряд, осматривает бойцов долгим, испытующим взглядом. «Идут краснозвездцы…» Он идет теперь по самому краю тротуара, стараясь попасть в ногу военному маршу.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Красивый, сильный, глубоко дышащий, движется он по московским улицам, сердится на купола Страстного монастыря, из-за которых Пушкину плохо видно новый дом «Известий». Заходит в Зоопарк посмотреть на разных «звериков». Он любит зверей. «Я зверье люблю… Пустите к зверю в сторожа». Во всех письмах его шутливо и тепло говорится про разных «собаков и кошков».
«В Харькове заходил к Карелиным, – пишет он домой.– У них серая кошка подает лапку. Я глажу всех собаков и кошков. В Киеве в гостинице есть большая рыжая с белыми крапинками».
Он даже в телеграммах подписывается: «Щен». (От слова «щенок».)
Он идет по улице, любуется яйцеобразным матовым куполом планетария:
На земле
огней – до неба…
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Останавливается, заинтересованный, у первых вышек над будущими шахтами метро:
Что такое?! Елки-палки!
По Москве – землечерпалки.
. . .
Во Москве-реке карась
смотрит в дырочку сквозь грязь —
под землей быстрей налима
поезда шныряют мимо.
Он наклоняется над самой скважиной, заходит за ограждение, вынимает перед милиционером свой корреспондентский билет:
– Я писатель. Газетчик. Я все должен видеть. И опять, довольный, бормочет:
– Что делается, что делается! Это же социализм! Однажды ночью в жарком споре мы проглядели время.
И, опоздав на последний сегодняшний трамвай, решили уж досидеться до первых завтрашних… Ночь быстро слиняла. Утро заскрежетало колесами первого трамвая. Ночь была исчерпана. Темы разговоров – тоже. Потушили электричество. Спор угасал сам. В комнате голубело. Маяковский поднялся с кресла, и мы двинулись домой.
Мы с Владимиром Владимировичем сели в вагон трамвая «Б». Трамвай был почти безлюден и казался необыкновенно просторным. Это был вагон нового типа, не так давно пущенный по Москве. Маяковский с любопытством оглядывал трамвай.
– Вагон какой-то странный, непривычный! – сказал он.– Или просто я днем, в давке, не обращаю внимания. Но, по-моему, я в первый раз на таком еду.
– Новая серия, – сообщила кондукторша, – устройство на новый манер. Вишь, потолок высокий – кумполом. И заместо висюлек ременных – скобы, чтобы держаться. И вообще свободнее старых.
Маяковский прошелся по вагону, увидел дощечку: «Коломенский завод. 1929».
– Вот здорово! – восхитился Маяковский.– Значит, уже не наследие какое-нибудь; сами можем уже такие трамваищи выпускать. Прямо роскошный трам. Очень здорово… А как вы думаете, сколько лет тянулась династия этих кожаных петель? Черт знает, наверное, сколько лет… А вот вам усовершенствование: скоба. Мелочь, а приятно.
Маяковский любовно трогал медные скобы, грузно, по-хозяйски прохаживался по вагону, мычал что-то про себя, заглядывал под скамейки, прислушивался к ходу, высовывался с площадки, чтобы осмотреть трамвай снаружи.
Кондукторша с явным осуждением смотрела на громадного человека, восторгавшегося таким будничным и неказистым явлением, как трамвай. По ее снисходительному лицу видно было, что она приняла Маяковского за ротозея из провинции.
Мы приближались к Таганке.
– А ну-ка, как он в гору? – заинтересованно проговорил Владимир Владимирович.
Трамвай легко взбежал на таганский холм. У Маяковского сошло напряжение с лица.
В Таганке мы сошли. Стоял встречный трамвай старого типа.
– Наш лучше! – весело сказал Маяковский.– Верно, приятно?
В другой раз, тоже ночью, когда мы вдвоем возвращаемся пешком из гостей, он вдруг останавливает меня, взяв сверху за плечо:
– Послушайте! Мы здесь с вами как-то проходили с месяц назад. Тут же ни черта похожего не было. Я помню, сколько дряни всякой горами. А сейчас, глядите, уже три этажа вымахали! Пойдем узнаем, что это тут строится. Интересно же ж! Вон ночной сторож весь во власти дивных грез. Сейчас мы этого дядю вернем к полезной деятельности! Пусть не дрыхнет на народные деньги… Гражданин! Что это тут строят за вашей спиной? Вот мы с товарищем интересуемся. Школу?.. Видели? За какой-нибудь месяц и уже почти готова! Как научились! А? Слушайте, это же социализм! Честное даю вам слово… До свиданья, гражданин. Спасибо. Рекомендую бодрствовать.
До всего ему дело. Он живет всеми интересами страны и мира, весь нацеленный в будущее, к которому рвется безудержно, напролом, шагая так, чтобы «брюки трещали в шагу» и к прошлому относило лишь «путаницу волос».
Иногда, вернувшись под утро после ночного дежурства из редакции, я, едва войдя к себе домой, уже в передней слышу телефонный звонок и узнаю в снятой трубке неповторимый бас:
– Это Маяковский. Не легли еще? Звонил вам в редакцию, сказали, что вы уже отбыли… Слушайте, как там в моем Париже муниципальные выборы? Коммунисты хорошо прошли? Очень интересуюсь… Так. Очень хорошо.
Спасибо. Ну, теперь можно и спать. Устали? Я – зверски. Работал.
Вот о чем он думает, когда ему не спится в рассветный час, вот где его мысли. Вот он каков сам – Маяковский.
А литературные специалисты не понимают, как он может свое исполинское дарование переключать на обслуживание мелких, календарных, трамвайно-водопроводных тем. Но его действительно вдохновляет и новый советский трамвай и ванна в новом рабочем жилище. Ему хочется, чтобы рабочий, влезая в чистую рубаху или в новый трамвай, признавал:
Влажу и думаю:
– Очень правильная
эта,
наша,
советская власть.
Ему ненавистно наималейшее проявление бюрократического чванства, казенного равнодушия к людям.
Как-то раз он остановил на улице свободное такси, чтобы ехать домой. Он открыл уже дверцу и характерным жестом, обеими руками берясь за машину, наклонившись, большой, стал как бы нахлобучивать всю машину на себя, надевая через голову, – так нам всегда казалось, когда он влезал в маленький автомобиль…
Вдруг двое молодых людей развязно и категорически потребовали предоставить машину им. Узнав Маяковского, они влезли в лимузин, стали скандалить и для большей убедительности принялись размахивать какими-то «ответственными удостоверениями». Это и взорвало Маяковского, у которого к мандатам никогда почтения не было.
– Я бы охотно уступил им машину, – рассказывал он потом, – черт с ними! Как вдруг они бумажкой этой начали бряцать… Мандаты там какие-то… Понимаете? Раздобыл какую-то бумажку с печатью и уже опьянен ее властью. Подумаешь, ордер на мир! Особый бюрократический алкоголь. От бумажки пьян. Ему уже бумажкой человека убить хочется. Ах, до чего ж я ненавижу эту дрянь!.. Я их пустил в машину. «Садитесь, говорю, пожалуйста». Сели. Нагло сели. Я и отвез их в милицию.