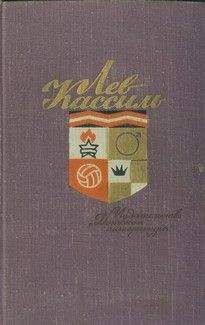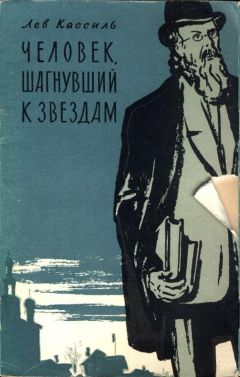Он ставит на что угодно: на номер извозчика – делится на три или не делится? Загадывает, четный или нечетный подойдет номер трамвая. Однажды в Париже он проиграл весь город…
У него был составлен целый план повторных экскурсий по Парижу. Но в последний день с утра ему не везло в игре. Времени для того, чтобы отыграться, оставалось немного. Он поставил на карту Париж. Сперва он проиграл Большую Оперу, потом Лувр, потом Версаль и, наконец, Эйфелеву башню. Времени осталось только, чтобы поспеть на непроигранный вокзал.
Долг проигрыша он считает священным и, продувшись вконец «на услуги», безропотно подчиняется капризу удачника: терпеливо кипятит ему чай, таскает за ним по саду стулья…
А однажды, как того требует выигравший, напевая песенку тореадора, торжественно и беспрекословно приводит во двор, ухватив за рога, чужую корову… И он выполняет все это с таким снисходительным великолепием, не допускающим насмешки или сожаления, что сам победитель, заказавший эту «услугу», чувствует себя через минуту позорно проигравшим.
Вечером, усталый, он сидит за столом и, заслонясь от всех газетой, одиноко грустит о чем-то. Он жует папиросу, отчужденно молчит. Днем он недоругался с противниками. Сотнями мелких тупых уколов обидела его очередная ругательская статья в критическом журнале.
Поздний вечер. Гендриков переулок полнится окраинной скукой. И вдруг под самыми окнами, под открытой форточкой – молодые голоса… Видно, рабфаковцы возвращаются домой. Мгновенная тишина – и голоса, похожие на те, что описаны в его «Кемп «Нит гедайге», дружным хором отмеривают под окном, по-своему переиначив, строки «Левого марша»:
Проулок, мощенный славой!
Запомните адрес все вы…
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
Маяковский поднимает голову над газетой и прислушивается. Он быстро встает и подходит к окну, вглядывается, прислонившись лбом к стеклу, в темноту.
Когда он обернулся, папироса уже поползла к уху – большая, долгая, счастливая улыбка…
– Жизнь прекрасна и удивительна!
Год 1927-й или 1928-й… Москва увлекается радио. Решетчатый гиперболоид башни на Шаболовке привлекает теперь взоры и слух сотен тысяч людей. На улицах, в трамваях говорят о детекторах, конденсаторах, вариометрах. У магазинов на Кузнецком мосту, на Мясницкой и Никольской, где торгуют электроприборами и радиопринадлежностями, с утра до вечера толкутся любители. С ухватками голубятников они вытаскивают из-под полы маленькие самодельные приемники. На крышах всходит целая заросль антенн, любители закидывают свои удочки в эфир, вылавливая желанные сигналы.
Но радиовещание наше переживает лишь младенческий период. Концерты бывают редко. Однако люди с восторгом слушают у себя на квартире, припав к наушникам, метеосводки или медлительный диктант ТАСС, передающего информации для газет. Людей трогает и умиляет уже сам факт: они слышат, и им неважно, что они слышат. С непривычки они еще говорят шепотом. Им кажется, что их тоже могут услышать там, на радиостанции.
Тесные московские квартиры становятся как будто просторнее. Их теперь запросто посещают голоса знаменитых людей, в частное жилье открыт доступ отзвукам всехсветных событий.
То в Москве,
а то
в Ленинграде я.
То
на полюсе,
а то
в Лондоне.
Очень приятное это —
р-а-д-и-о!
Маяковский, повидавший немало радиочудес во время своих поездок по миру, с завистью рассказывавший о них, теперь жадно следит за тем, как развивается радио у нас. Его захватывает возможность сделать голос поэта еще дальнобойнее – всепроникающим, повсеместным. Он ревниво и заботливо прислушивается, как растет мощность наших радиостанций, как очищается от акустического мусора их тон. С великой охотой и гордостью одним из первых принимает он приглашение выступить по радио, прочесть у микрофона свои стихи, попробовать свой голос в эфире.
Его ждут в радиостудии на Тверской. В маленькой студии, похожей на туалетную шкатулку, целиком задрапированной, с мягкими полами, стенами и потолком, он бесшумно шагает к столику, над которым на проволочных спиральках, похожий на большого паука, подрагивает микрофон.
– А много там народу? – шутливо спрашивает Маяковский, кивнув на микрофон.
– Весь мир, – отвечает торжественно настроенный радиоредактор.
– Ну, мне больше и не надо.
Маяковский раскладывает на столе перед микрофоном листочки с новыми стихами. Он написал специальные стихи для радио. Разве можно окунуться в эфир со стихами, уже выкупанными в другой аудитории?
– Алло! Говорит Москва. Перед микрофоном поэт Владимир Владимирович Маяковский, – объявляет диктор.
И тысячи радиолюбителей нашаривают волоском детектора самую чувствительную точку на камне, чтобы ни один звук не потерялся по дороге к приемнику.
Голос Маяковского, которому всегда было тесно в самом вместительном зале, сегодня, отрастив новые крылья, взвивается «из зева до звезд».
– Читаю новые стихи: «Счастье искусств».
Бедный,
бедный Пушкин!
Великосветской тиной
дамам
в холеные ушки
читал
стихи
для гостиной.
Жаль —
губы.
Дам
да вон!
Да в губы
ему бы
да микрофон!
Голос Маяковского обжился в эфире. Просторно раскатывается он над Москвой, отдаваясь в тысячах наушников, в сотнях рупоров. Широкая усмешка его губ распяливается от горизонта до горизонта. Поэт добродушно жалеет Мусоргского, которому тоже, должно быть, было тесно для его звуков:
…концертный зал
да обеденный
обойдут —
и ни метра дальше.
Маяковский сокрушается, что слишком тих был не подхваченный радио голос Герцена:
По радио
колокол-сердце
расплескивать бы
ему
по России!
Гордо, торжественно, как победитель пространств и времен, дорвавшись до всех углов, непреоборимо наступает голос Маяковского:
Во все
всехсветные лона
и песня
и лозунг текут.
Мы
близки
ушам миллионов —
бразильцу
и эскимосу,
испанцу
и вотяку.
Как дредноут, несется по радиоволнам бронебойный голос… Приходится немного расстроить приемник чуточку в сторону от волны, чтобы укоротить этот бас, рвущийся в уши.
Но тут как будто происходит маленькая заминка. Радиолюбители слышат какие-то невнятные переговоры, шепот, треск… Но снова, заполняя весь эфир до отказа, звучит Маяковский:
Долой
салонов жилье!
Наш день
прекрасней, чем небыль…
Слушают, стиснув железными скобками наушников свои головы, радиолюбители. Собралась молодежь у громкоговорителей в клубах. Возмущенные неуважением к классикам, выключают приемники ценители изящной словесности.