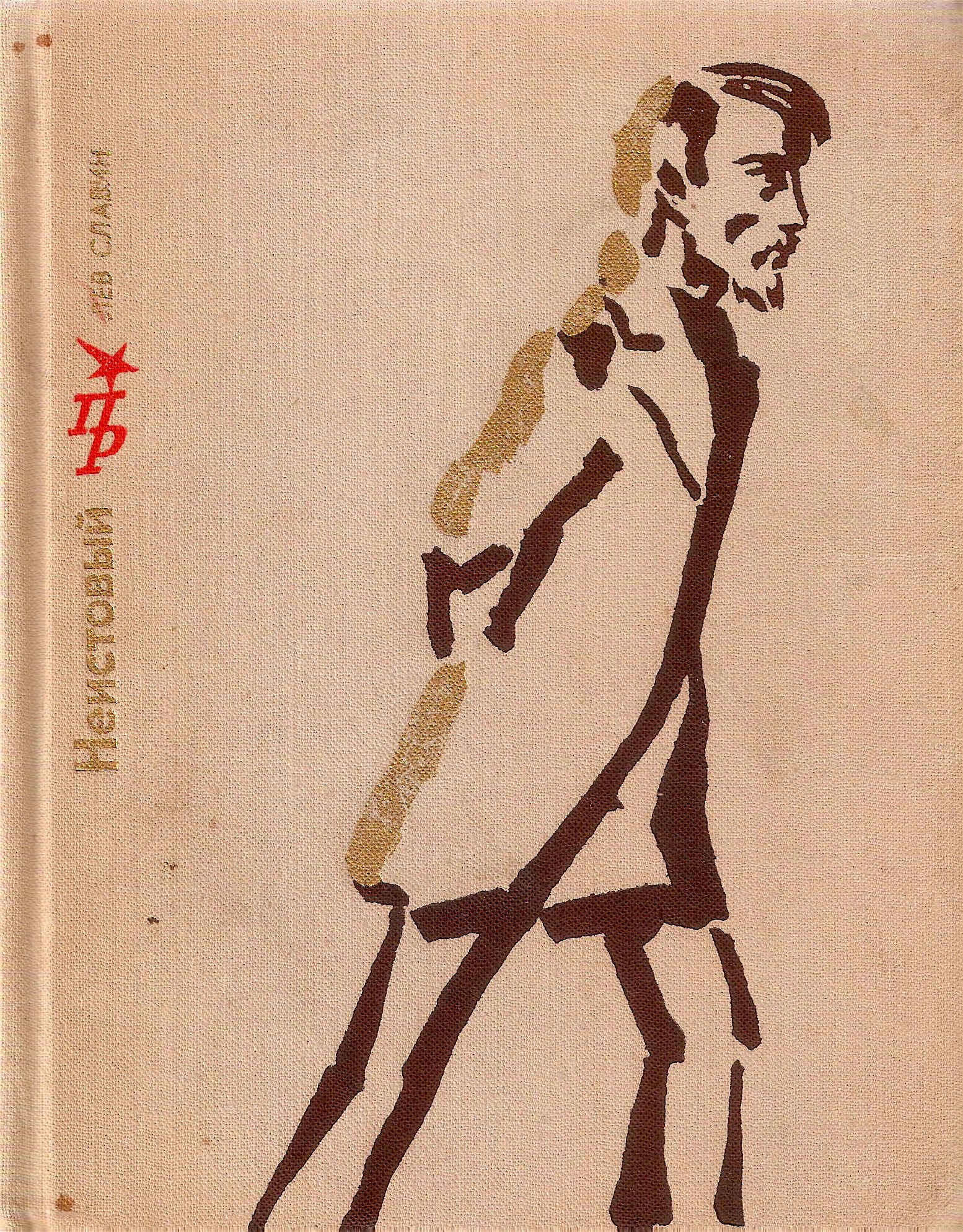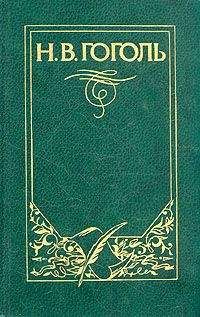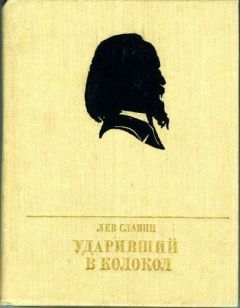вошел без стука мальчик из кухмистерской. Он поставил на стол кастрюлю, обернутую в салфетку сомнительной чистоты, и вопросительно посмотрел на Белинского. Пошарив в кармане, Виссарион вынул несколько монет и дал их мальчику. Тот все не уходил.
— Чего тебе?
— Кастрюлю-с...
Белинский снял с полки миску и перелил туда содержимое кастрюли. Мальчик взял ее, сунул в карман салфетку и вышел.
Суп пахнул дурно несвежим мясом. Белинский густо его наперчил. Разделавшись с супом, он принялся за кусок говядины размером с детскую ладонь. Его пришлось также поперчить.
Пообедав, Белинский закурил и вернулся к письму:
«..не решусь ни за что в мире, ни за какие блага видеть мои статьи искаженными и переделанными не только рукой какого-нибудь негодяя Сенковского, но и самого почтенного и доброго Жуковского, или, сказать яснее, никого в мире...».
Субботы Селивановского
...просто писать о чем-нибудь жизненное и без всякой формы, не стесняясь... тут и факты, и слезы, и хохот, и теория...
Герцен
Гостей еще в прихожей встречал самолично Николай Семенович. Отстранял лакея Прошку и сам рвался снять с гостя пальто. В последующей затем борьбе деликатностей хозяин заявлял:
— Я член общества взаимного раздевания и надевания пальто.
Штаб-лекарь Кетчер Николай Христофорович в конце концов рявкнул:
— Пора бы тебе, Николаша, сменить наконец дежурную остроту. Эта уже истлела и от старости сыплется.
Сам оглушительно захохотал и сбросил на руки хозяину свой черный плащ на красной подкладке. Николай Семенович кисло улыбнулся, а в душе решил больше этого грубияна на свои субботы не звать. Но тут же признался себе, что ведь мера эта ни к чему не приведет, ибо Кетчер не из тех людей, которые, собираясь в гости, придают значение такой мелочи, как отсутствие приглашения. Однако насмешку его хозяин из головы не выбросил, а упрятал в то досье памяти, на котором значилось «Расчеты к расплате».
Уж до того осторожен Николай Селивановский, что не только имени своего, но даже и псевдонима не ставит под своими писаниями в «Молве», изложенными, кстати сказать, языком суховатым и неряшливым. Правда, пишет он мало, а больше занимается делами типографии, которую унаследовал от отца.
Вот типография-то и возбудила в нем честолюбие. А я-то чем хуже всех этих Надеждиных, да Клюшниковых, да Красовых и как их там еще звать? Белинского, например, выгнали со второго курса, а я универсант, кончал вместе с известным поэтом Полежаевым, не к ночи будь это имя упомянуто. Блистать в литературе страсть как хочется! А дарованьице с гулькин нос. Вот то-то и оно! Ведь Николай Семенович начисто лишен даже такой первоначальной черты, необходимой таланту, как непосредственность. Нет у него естественных ответов на внешние раздражители. Но чтобы не отличаться от других, он прикидывается то возбужденным, то растроганным, то разгневанным и так далее, оставаясь в то же время совершенно холодным. Он просто включает внутри себя различные кнопки, на которых значится: «волнение», или «негодование», или «умиленностъ», или «восхищение», или «справедливый гнев» и т. п. В конце концов, единственное сколько-нибудь сильное чувство его — зависть. И литературные субботы свои, пожалуй, завел он больше из надежды придать себе некую значительность в мире искусства, которое он несомненно любил. Но, заметил как-то Белинский, хоть Николай Семенович — эгоист, сплетник, трус и вообще протоканалья, однако при всей мелочности не чужд иногда, представьте, отзывчивости и однажды даже по записке Виссариона, находившегося в совершенной крайности, ссудил ему двести пятьдесят рублей, которые тот просил на срок не менее пяти месяцев. Белинский, как все широкие и горячие натуры, был чувствителен к благородным движениям сердца, как бы случайны они ни были.
Николай Семенович дружески подхватил Кетчера под руку и ввел в гостиную. Оба рослые и очень разные. Кетчер — взлохмаченный, мешковатый, с блистающими глазами, с крупными ртом и носом, как бы рвущимися из его лица, чрезмерно прямолинейный, безгранично обидчивый, в дружбе доходящий до самозабвения, назойливый моралист и большой мастер к месту и не к месту резать в глаза правду-матку.
А рядом Селивановский — элегантный, сдержанно любезный, слегка позер, не очень разговорчивый, по дока по части неглупых реплик, никогда не теряющийся, но почему-то с беспокойными глазами под высоким лысеющим лбом.
Появление Кетчера было встречено приветственными криками:
— А, упсальский барон!
Так называли Николая Христофоровича за его полушведское происхождение. Он набил трубку крепчайшим табаком и, зловонно дымя, пошел пожимать руки гостям, которых уже изрядно понабралось в обширной гостиной. Было тут несколько артистов, преимущественно из Малого театра, Щепкин Михаил Семенович, славный наш комик, а впрочем, блиставший и в чувствительных ролях. И Петр Гаврилович Степанов, артист, а сверх того еще и художник-гример, но наиболее отличавшийся в комическом подражании нашим известным артистам. Мочалова, правда, еще не было, но Катерина Федоровна, жена Селивановского, шепнула Кетчеру, что после спектакля к ужину Павел Степанович обязательно будет.
Был тут композитор Варламов Александр Егорыч, заглянул, но вскоре исчез издатель «Московского наблюдателя» Андросов. И оба брата Полевые пришли, Ксенофонт и Николай,— этот нервически сжимал в руке объемистую рукопись. Прибежал легкой походкой своей Вася Боткин с цветной шапочкой на облысевшей голове и тотчас бочком завертелся среди гостей. Явился несколько запоздавший Белинский, смущенно поглаживая недавно отпущенные усы — предмет изощренных шуток Селивановского. Был здесь и друг наш Тимоша Всегдаев, коему удалось наконец ввести Валеру Разнорядова в этот московский дом, не отличавшийся, впрочем, большой разборчивостью, в противоположность, например, салону Екатерины Левашевой на Ново-Басманной, где царствовал Чаадаев и куда проникнуть не своему было много труднее.
Надо полагать, что Валерка был малый любознательный, он подсаживался всюду, где закипал разговор. А главным образом, к Белинскому. Он, можно сказать, не отставал от Виссариона Григорьевича, впивал каждое его слово. Такой интересант до всего выдающегося, этот Валерка Разнорядов! Услышав имя Станкевича, он тотчас прильнул к Белинскому.
— А зачем вам Станкевич? — удивился Неистовый, вглядываясь в круглое, умильно добродушное лицо Валеры.
— Влечет меня, Виссарион Григорьевич, его необыкновенность.
— А в чем она, собственно?
— Как же-с! Скопище талантов! Он и музицирует, он и стихи