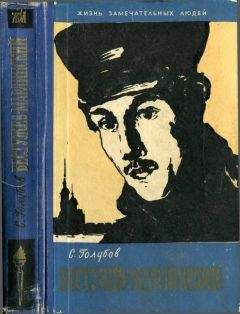Рылеев слушал и молчал. Потом вдруг воскликнул:
— Согласен! И хотите знать, как будет называться наш альманах? Смотрите, Бестужев!
Рылеев показал правой рукой в небо. Его шинель сползла с плеча и тащилась длинным хвостом по пыльному граниту.
— Видите?
Бестужев посмотрел по направлению его вытянутого, казавшегося неправдоподобно длинным пальца. Над золоченым шпилем Петропавловской крепости тонким зеленым огнем искрилась переливчатая звезда.
Рождался альманах «Полярная звезда». Литературное болото Петербурга колыхалось и шипело. Первым прослышал Булгарин и прибежал на Васильевский остров к Рылееву, где случилось в это самое время быть и Бестужеву. Ворвавшись в маленький домик на 16-й линии, отставной капитан французских войск наполнил шумом и криками все четыре комнаты рылеевской квартиры. Стуча в грудь и по столу огромным кулаком, Булгарин требовал объяснений.
— Ты пустишь меня по миру, — бросался он на Бестужева, — оставишь без копейки. Вот дружба! Ах, проклятое человечество! Что же скажет теперь моя Ленхен? Что я скажу ей, когда карманы мои пусты?
И он выворачивал карманы венгерки, из которых сыпались империалы и ассигнации. Ленхен звалась его любовница — розовая, синеглазая, полногрудая немочка, жившая у него в доме со своей сварливой теткой. Приятели Булгарина звали ее тантой.
Фаддей Венедиктович лежал в кресле, изнеможенный, и, слабо помахивая толстой рукой, дышал как висельник, только что вынутый из петли.
Бестужев и Рылеев хотели, чтобы альманах «Полярная звезда» был не только литературным предприятием, но в известном смысле и коммерческим. Он должен был давать достаточное вознаграждение литераторам, которые будут в нем участвовать, принося, конечно, вместе с тем некоторую выгоду и своим издателям. Это было необыкновенно. Возникало даже сомнение: пожелают ли будущие участники «Звезды» писать не для славы, но и для денег? Многие писатели были богаты и, занимаясь искусством, считали унизительным «трудиться из платы». Вопрос о гонораре был серьезным вопросом, который никогда до сих пор не поднимался. Самый характер издания был нов и свеж в России. В Германии и Англии литературные календари и альманахи выходили во множестве к каждому новому году. Россия же вовсе не знала альманахов, если не считать «Аонид» Карамзина, появившихся, впрочем, еще в XVIII столетии.
Бестужев и Рылеев были заняты по горло. Вместе и по отдельности они ездили к Жуковскому, барону Дельвигу, Гнедичу, прося стихов и прозы для своего издания и осторожно намекая на гонорар. Однако опасения их оказались напрасными, мысль о плате никого не смутила, а многим понравилась. Все обещали дать кое-что. Бестужев написал в Москву князю Вяземскому и Денису Давыдову. Знаменитый партизан отвечал по-кавалерийски:
«Гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятий, и потому стыдно мне было бы отказаться от вашего предложения».
Обещал выслать четыре «пиесы».
Написал Бестужев и Пушкину в Кишинев. Ответ пришел без замедления, помеченный 21 июня. «Бес арабский» прилагал к письму свои «бессарабские бредни»: «Мечту воина», стихотворения «К Овидию», «Гречанке» и элегию «Увы! зачем она блистает…». Просил кланяться его старинной приятельнице — цензуре, благодарил незнакомого еще Рылеева за приписку к бестужевскому письму и обнимал обоих.
Бестужев сочинял для альманаха большую критическую статью. Довольно! Он больше не будет учить своих читателей, как надо определять удельный вес краденых мыслей в любом из новейших сочинений; не станет он больше выдумывать машин для изготовления общих мест к историческим романам, калейдоскопа для составления разных стихотворных размеров — все эти шуточные вылазки, которые так нравились читателям, должны прекратиться. Бестужев хотел выступить с серьезным обзором всей русской литературы и просиживал над статьей долгие часы непогодливых осенних ночей.
В октябре Петербург был взволнован двумя событиями, неожиданными и странными:. по повелению императора, заседавшего на конгрессе в Вероне, один за другим были высланы из столицы вице-президент Академии художеств Лабзин и старинный литературный антагонист Бестужева — Катенин. Первый — за то, что предложил на заседании академического совета избрать в почетные члены академии вместо графа Аракчеева лицо, не менее близкое к особе государя, — царского кучера Илью Байкова. Второй — за свистки в театре по адресу трагической актрисы Семеновой, талант которой высоко ценился императором.
Бестужев сердечно жалел Катенина и возмущался по обыкновению громче всех. Рылеев также пылал гневом. В эти дни взволнованных мыслей и буйных слов приятели сошлись у Рылеева.
— Стой! — закричал Кондратий Федорович. — Да почему бы нам с тобой не пустить и в народ что-нибудь против деспотизма? Говоря друг с другом, мы кусаем деспота, как блохи, а когда заговорят Охта и Кронштадт, дело другое…
Бестужев подхватил:
— Верно. Катенин переводил с французского — это для нас. Мы же напишем народным языком, чтобы пронеслось между солдатами. Например, в роде подблюдных песен. Пишем песню, Конрад!
Друзья — на диване, чернильница — посередине, перья — в руках; строчка за строчкой выливаются на бумагу; Бестужев начинал, Рылеев продолжал. К вечеру была готова песня:
Ах, тошно мне
И в родной стороне!
Все в неволе,
В тяжкой доле…
Видно, век так вековать…
Скоро сочинение подблюдных песен стало любимым занятием Бестужева и Рылеева. Булгарин, довольный ходом дел в своем «Северном архиве», устроил ужин с шампанским. Сошлось человек пятнадцать. Было весело и шумно. Розовая Ленхен, сладко поглядывая на Бестужева, просила стихов. Читали стихи. Кто-то крикнул:
— К лешему стихи! А ну-ка…
Живо сбился в углу хор. Десяток голосов, освеженных морозным «Аи», вынес высоко вверх:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!
Где читают Pucelle [19]
И летят под постель
Святцы…
Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу…
Одни пели, другие смеялись, и только бледный Булгарин постоянно выбегал в соседнюю комнату и выглядывал из форточки на улицу — квартира была в первом этаже.
— Ты что? — спросил его Греч. — Живот болит?
Булгарин побледнел еще больше и зашептал:
— Слежу, не взобрался ли на балкон квартальный, чтобы подслушать…
И снова убежал. Ленхен смеялась и пила из бестужевского фужера. Танта вязала чулок, строго поглядывая на племянницу поверх оловянных очков. Бестужев неприметно обнял девушку. Хор гремел: