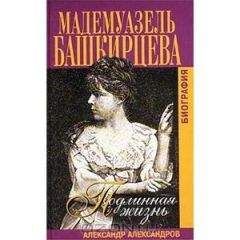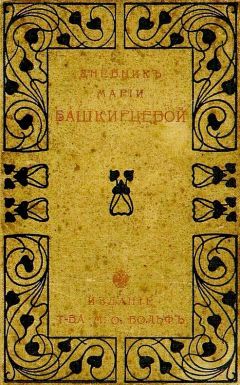Я вернулась домой только для того, чтобы переодеться к ужину, куда нас пригласили. Там будет много народу. Я долго занималась своей прической, уложив на этот раз волосы естественно-вьющейся короной и оставив лоб совершенно открытым. Я и не подозревала своей красоты, всего благородства этого великолепного лба! Эта прическа придавала мне совсем другой вид, мне можно было дать 15 лет, чему способствовала какая-то особая девственная чистота лба, который обыкновенно маскируется прической. Я казалась самой себе необыкновенно чистой. Мне чудилось, что я священнодействую, что я смотрю с высоты какого-то трона. Такое сознание придает всем движениям человека особую кротость, особенный вид спокойствия и силы.
Я сияла свежестью и чистотой, но там не было никого, кто интересовал бы меня. А я по опыту знаю, что можно быть красивой, когда хочешь этого. Сели играть в карты. У меня счастливая рука, и я сдавала карты до одури, до отупения. Все боролись со скукой доступными им средствами. Я же переходила от одной группы к другой и, видя всех занятыми, стала раскладывать пасьянс. Это глупо, но пасьянс повышает, усиливает течение мыслей и дум. Необходимо, чтобы какое-нибудь имя перемалывалось в этой огромной мельнице, которую я ношу на своих плечах. Я чувствую потребность думать о ком-нибудь.
Вторник, 16 октября 1883 г.
Я случайно прочла несколько страниц из моей жизни за 1880 год и вижу, что теперь я гораздо счастливее. Это удивительно, но в сравнении с тем временем, и даже без всякого сравнения, у меня теперь нет никаких тревог, я спокойна.
А тогда! Целые дни я плакала и убивалась, — и из за чего! Теперь все это кажется мне совершенно ничтожным. Наше положение улучшилось. О, да, я чувствую себя теперь хорошо и благодарна за это Богу.
Среда, 18 октября 1883 г.
Сегодня я начинаю работать над моделью для своей статуи, работаю я, как первобытный человек — я вынуждена изобретать средства.
Я страшно боюсь заболеть. Мне трудно дышать, я чувствую, что слабею и худею.
Так вот она, эта ужасная болезнь!
У меня чахотка.
Хотела бы я, чтобы все это было только игрой моего воображения… но, увы! Нужно будет поехать на юг… Как все это горько и досадно!..
Я провела два ужасных часа без всякой видимой причины. Нечто подобное должен испытывать приговоренный к смерти. В гостиной горела только одна лампа. Мама работала, Дина зевала, и только тетя время от времени проходила по комнате. Все они тихо обменивались по временам несколькими словами и снова умолкали. Во всем этом, казалось бы, не было ничего особенного, но мне оно казалось подавляющим, мрачным. Мне казалось, что я где-то в глухой русской деревне, далеко от Парижа, что меня ждет какое-то несчастье. Глядя на меня со стороны, можно было подумать, что я спокойно читаю, а я все время не переставала думать о смерти… Но довольно! вы никогда больше не услышите от меня жалоб ни на эти затаенные горькие думы, ни по поводу других неприятностей.
Что делать!
Я предчувствую что-то ужасное, не знаю только, что именно. Все может случиться… Я буду молиться.
20 октября 1883 г.
Если бы мне было шестнадцать лет, можно было бы сказать, что это просто те неопределенно-грустные настроения, которые свойственны всем девушкам этого возраста. Но это не то. Я похожа на человека, вынувшего жребий.
Пожалуйста, милые и дорогие французы, — не считайте меня по сему случаю суеверной восточной женщиной, славянкой, и т. д.; не приписывайте мне всего того, что вы вообще приписываете всем иностранкам, которые не похожи на вас. Если я говорю о «несчастном жребии» и других фантастических вещах, то только потому, что мне это кажется забавным или выразительным. И если бы я родилась не в России, а на Монмартре, и называлась бы Марией Дюран или Ирмой Пошар, дело от этого не изменилось бы.
Возможно, что французский язык, на котором я пишу, мало похож на французский. Если бы я следила за собой, я могла бы писать очень правильно. Но мне кажется, что иные несвязные беглые мысли именно и требуют этой наивности выражения.
Я уже совершенно избавилась от своей мрачной тоски… Конечно, если бы я вылечилась, я обезумела бы от радости. Но не сознание, что я больна, причиняет мне страдания, — перед этим несчастьем я смирилась.
Да, мой Господь!.. Я смирилась, я принимаю эту жизнь, как она есть — с огромным черным пятном. Не отягощай же ее! Прояви ко мне свое милосердие!..
Я живу одним только воображением. Судите сами: когда я встречаюсь с Бастиеном Лепажем, я думаю, что он мне нравится; но на другой же день это проходит. Несколько дней спустя я ловлю себя на том, что уже даже и не думаю о нем, — ни одной минуты.
Но если я о нем не буду думать, так о ком же? Уверяю вас, мне просто необходим какой-нибудь объект для мечтаний, которые усыпляют меня. Другого значения эти мечты не имеют, — и ни о какой истинной любви и речи быть не может.
4 ноября, 1883 г.
Из церкви мы пошли к Г. Смешно, но мне кажется, что я нравлюсь Г. Может быть, он любит меня по своему? Это прелестный юноша, но что же я с ним сделаю? Я не люблю его, у меня даже нет желания поцеловать его. Обыкновенно спрашиваешь себя, закрыв при этом глаза, могла ли бы я поцеловать такого-то? И ни он, ни кто другой ничего не говорят мне…
Тем не менее мне хотелось бы пококетничать с ним… Но я слишком честна для этого. Я убеждена, что мне было бы легко влюбить его в себя. Ну, а потом? Нет, — это причинило бы ему слишком много огорчений.
Мне казалось, что великий князь смотрел на меня. Пожалуйста, без восклицаний!.. Я заглянула в эдмондовскую книгу предсказаний. Она посулила мне впереди тысячу огорчений всякого рода, но тут же утешила меня, что в конце концов я добьюсь всего, за что ни возьмусь, что бы ни случилось и каковы бы ни были отдельные минуты отчаяния.
5 ноября.
С тех пор, как я шью себе платья в Париже, я борюсь с глупыми и неуклюжими модами. Пять лет тому назад я требовала, чтобы драпировали корсажи, делали бы их открытыми, в стиле Людовика XV или древней мифологии. Иногда я требовала, чтобы платья шились по образцу древнееврейскому. Меня считали поэтому эксцентричной. Но так как я по целым часам твердила об этом Ворту, Дусе и Лаферьер, то моя мода привилась. Вот уже два года, как только и видишь, что драпировки, жабо, косынки. Самые известные фасоны у Дюсе — мое изобретение. И ни одно из них не носит моего имени!..
Вторник, 6 ноября.
Эмиль Бастиен сказал мне, что его брат болен, — болен потому, что мало занимался живописью в этом году. Совсем как я, значит!.. Я показала Эмилю Бастиену моих «Гаменов», и едва осмеливаюсь передать, что он сказал. Он уверял меня, что я наверное получу медаль, что многие, даже первоклассные художники, не обработали бы так сюжета, что, глядя на эту картинку никому не придет в голову, что это произведение молодой девушки. Он называл картину произведением художника мыслящего, наблюдательного, сильно любящего природу… Одним словом, я превзошла все надежды, какие он возлагал на меня. «Но будьте осторожны», прибавил он: «теперь наступает критический момент. Картина будет иметь большой успех, но смотрите, не опьяняйтесь успехом. Было бы очень жаль, если бы это случилось!»