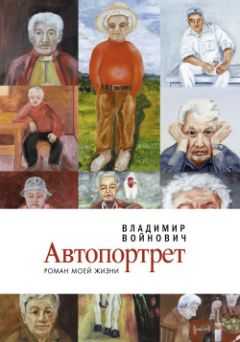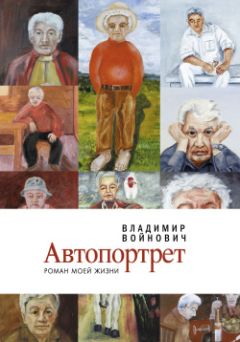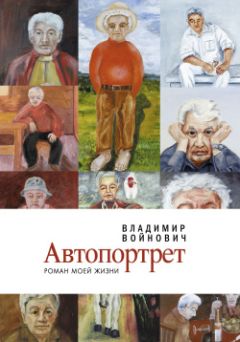Оля и фрау Гербер
Прошли рождественские каникулы. В начале января Барбара спрашивает Иру:
— А как с девочкой? Когда пойдет в школу?
— Наверное, в будущем году, — отвечает Ира.
— Завтра, — говорит хозяйка.
— Нет, ну, нам надо тут еще…
— Завтра!
Завтра она нас просто схватила, мы приехали в единственную в Штокдорфе начальную школу. Учительница фрау Гербер взяла Олю за руку, увела в класс. Через четыре часа мы приезжаем, выходит Оля, очень радостная. Фрау Гербер говорит:
— У нее уже тут есть подруга.
Оля говорит:
— Три подруги!
— Что ж ты там делала? — спрашиваю. — Ты же ничего не понимаешь?
Оказывается, фрау Гербер ввела Олю в класс со словами:
— Дети, это русская девочка, она только что приехала из России. Она не говорит по-немецки ни одного слова.
И всем детям это так понравилось, что они кинулись к ней дружить. У нее и сейчас есть подруга Соня, с которой они с 1-го класса и до сих пор неразлучны.
Оля слишком долго, как мне казалось, не могла разговаривать по-немецки. Мы нашли для дополнительных занятий частную учительницу, фрау Гёбель. Фрау занималась с Олей бесплатно, регулярно и по несколько часов в день, но эффект долго был нулевым. Месяца через три мы ехали на машине с приятелями и их двумя детьми. Все дети на заднем сиденье. И вдруг я слышу, что Оля вовсю болтает с ними по-немецки. Она легко и сразу сошлась со всеми девочками в классе, а через нее мы познакомились с их родителями и как-то сразу вошли в немецкую среду, что многим эмигрантам казалось делом заманчивым и недоступным. Нашими близкими знакомыми стали мюнхенский банкир, владелец патентного бюро, директор гимназии, страховой агент, хозяин книжного магазина и местный крестьянин, бауэр, владелец обширных угодий и большого стада коров.
Увидев первый раз Барбару на старом «Фольквагене», я решил, что Вульфены люди скромных достатков, и сильно ошибся. Упомянутый «Фольксваген-жук» принадлежал одной из трех дочерей Вульфенов (еще у них есть сын Хубертус), а у Барбары есть вполне новый, но все-таки скромный «Опель». Зато Левин любит машины очень нескромные. В то время у него был автомобиль «Субару», который считался служебным, и «Астон Мартин» — для удовольствия. Потом служебную машину он менял на «Сааб», «Сааб» еще на чтото, «Астон Мартин» на «Ягуар», на «Бентли» и т. д.
Олина учительница фрау Гербер жила в соседнем поселке. Однажды после уроков я, привыкший к тому, что учителя люди бедные, предложил ей довезти ее на своем подержанном «БМВ». Она удивилась, поблагодарила, села в стоявший у школы серебристый «Мерседес» и укатила. Я был смущен.
Проходя в Штокдорфе мимо одного из пятиэтажных домов, я увидел около него много легковых автомобилей и подумал, что в нем, наверное, живут богатые люди. Как в нашем писательском доме, у которого стояло тоже очень много машин. Потом я понял, что ошибся. Если много машин, значит, живут скученно: много семей, много людей, много машин.
Пиво для русских танкистов
Католическое Рождество мы провели в гостинице, а Новый год встречали в доме Ланы Дейя, бывшей рижанки, и ее мужа Сташека, поляка, окончившего Ленинградскую консерваторию. Там я первый раз столкнулся с эмигрантской средой, которая меня очень сильно удивила.
во-первых, за столом все стали говорить о возможном вторжении советских войск в Германию, причем как о событии, которое вотвот должно произойти. Хотя я, живя в Советском Союзе, ничего подобного не ощущал. Советский Союз в отношениях с Западом, помоему, уже давно просто оборонялся, И, застрявши в Афганистане, захватить маршброском Европу вряд ли надеялся. Но на Западе люди беспокоились и задавались вопросом: «Что же будет?»
В той компании был старый эмигрант из так называемой второй волны. по-русски говорил с акцентом и с ошибками. И когда все всерьез стали обсуждать, что они будут делать, если советские танки войдут в Мюнхен, он, пивовар по профессии, сказал: «А я их не боюсь. Я вынесу пиво всем танкистам, и они меня не тронут».
Потом я встретил коренных немцев, которые в страхе перед русским вторжением вообще уехали из Германии. Я знал нескольких, эмигрировавших в Канаду и в Австралию, подальше от Европы, и живших там до самой перестройки. И лишь когда в Советском Союзе начались перемены, они поняли, что опасность миновала, и стали возвращаться в Германию.
Эмигранты меня удивили еще тем, что рассказывали небылицы о своей прошлой жизни так смело, как будто их собеседниками были не их соотечественники. Один, недавно покинувший СССР обыкновенным путем, по «еврейской линии», говорил, что его выслали из Советского Союза за то, что он хотел взорвать Мавзолей, и похоже было, что другие принимали эту выдумку за чистую монету, хотя по личному опыту жизни могли бы знать, что одно только намерение без реальной попытки совершения привело бы замыслившего к поездке в другую сторону. Известный эмигрантский деятель и писатель Роман Гуль при мне утверждал, что в Советском Союзе совсем не осталось цыган, они все уничтожены. Старушка из Висбадена спрашивала меня, почему в руководстве СССР так мало русских. Я спросил: «Вы имеете в виду, что там одни евреи?» Она замялась, но сказала: «Да».
Я привел ей полный список членов Политбюро ЦК КПСС, сказал, что в нем нет ни одного еврея. Она промолчала, но, как я понял, осталась при своем мнении. Многие эмигранты «третьей волны» врали друг другу, рассказывая, какое высокое положение они занимали в прошлой жизни и какими были отважными борцами с советской властью. Причем их отвага и бескомпромиссность возрастали по мере удаления от советских границ. В Израиле рассказывали анекдот: по улицам Иерусалима идут две маленькие шавки, и одна говорит другой: «Ты знаешь, а в России я была волкодавом».
А когда соприкоснулся с эмиграцией «первой волны», то увидел, что у тех вообще совершенно дикие представления о Советском Союзе. На какомто выступлении я, рассказывая о процессе Синявского и Даниэля, упомянул, как Михалков воскликнул:
— Слава богу, что у нас есть КГБ!
— Как, прямо так и произнес: «Слава богу»? — удивились они. — Разве там можно так говорить?
Потом я слышал от эмигрантов, что в Советском Союзе запрещены елки на Новый год. Они в самом деле когда-то, в 20х годах, были запрещены.
Язык старой эмиграции был совершенно другой: очень правильный, но уже занафталиненный. Они не знали современного русского языка. Мне рассказывали, что, когда Александр Галич выступал в Париже и пел свои песни, одна эмигрантка спросила у другой: «А на каком языке он поет?»