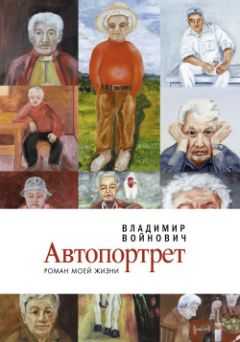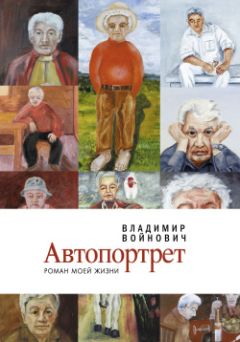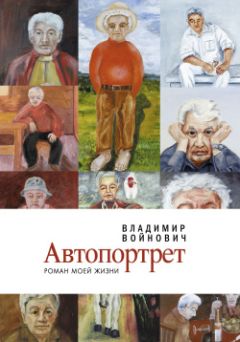Язык старой эмиграции был совершенно другой: очень правильный, но уже занафталиненный. Они не знали современного русского языка. Мне рассказывали, что, когда Александр Галич выступал в Париже и пел свои песни, одна эмигрантка спросила у другой: «А на каком языке он поет?»
Александр Зиновьев написал книгу «Зияющие высоты», которую диссиденты объявили гениальной. Так же она была воспринята и многими на Западе, успех ее был бурный. Зиновьева называли русским Свифтом. Я столь высоко это сочинение не ценил, оно мне казалось просто большим капустником, в котором отображались реальные ситуации и конкретные люди под очень прозрачными псевдонимами. Еще в Москве я с автором был знаком мельком, сначала мы встретились на организованной совместно с американцами Московской книжной ярмарке, а потом, когда он собрался уезжать, я посетил его на квартире. Он очень отличался от людей моего литературного круга и от известных мне диссидентов тем, что внешне и отчасти повадками был похож на секретаря парткома. Кроме того, он показался мне суетным и закомплексованным человеком. В Мюнхене я решил возобновить с ним знакомство, позвонил и был приглашен. Первое, на что мне невольно пришлось обратить внимание, это латунная пластинка на бачке унитаза. Натертая до блеска, она отражала и значительно увеличивала помещаемые перед ней предметы, в том числе и тот предмет, который мужчины обнажали, справляя малую нужду. Второе впечатление было и от его живописи, мрачносатирической и фантастической. Какието ужасные монстры, люди, рыбы, птицы, жабы, динозавры и скрюченный и голый Ленин в стеклянном гробу. Картины производили отталкивающее впечатление, я ни одну из них ни за что не повесил бы у себя дома. Зиновьев считался многими крупным философом и математическим логиком, я о достижениях его в этих областях судить никак не могу, может быть, вообще он был крупной личностью, но и у самых крупных людей бывают слабости и черты характера, которые, когда их подметишь, кажутся странными или смешными. Так вот, не оспаривая нисколько значения Зиновьева как философа, логика и вообще незаурядной личности, могу сказать, что был он, кроме всего, большой фантазер, поэтому к его рассказам о самом себе я относился всегда с недоверием. Например, к тому, что перед войной он покушался на Сталина, а потом бежал из тюрьмы, попал в армию, где был сначала кавалеристом, потом танкистом, а в конце войны летчиком. В жизни все могло быть, но все-таки трудно было поверить, что человек, реально покушавшийся на Сталина, мог бежать. Что кавалерист стал танкистом, поверить можно, но как танкист мог превратиться в летчика, это вообразить мне было уже труднее. Он хвастал, что во время войны убил много немцев, участвуя в каких-то, как я понял, наземных боях, в которых он вряд ли мог участвовать, если был летчикомштурмовиком. «Меня иногда немцы спрашивают, — говорил он, — вы не жалеете о том, что убили много немцев? Я им отвечаю: нисколько не жалею, а вспоминаю с удовольствием».
Фантазии его бывали подетски наивны и примитивны. Так же как и поводы для них. Например, у меня есть рассказ «В кругу друзей». Кто читал, тот вспомнит, там речь о Сталине в ночь перед нападением Германии на Советский Союз. Сталин, огорченный тем, что Гитлер его так подло обманул, а сам он оказался законченным простофилей, проникается к себе отвращением и даже ненавистью, в порыве которой хватается за пистолет и расстреливает собственное отражение в зеркале. Я описал, как зеркало трескалось, лопалось, как от него отваливались куски. Я дал этот рассказ почитать Зиновьеву. Не прошло и нескольких дней, как я услышал от него рассказ о том, как в самом конце войны, оказавшись в какомто немецком городе, он нашел где-то форму эсэсовского офицера, надел и пошел в ней (уже маловероятно) по городу. Вошел в какойто дом, стал подниматься по лестнице и вдруг увидел спускающегося навстречу эсэсовца. Он тут же выхватил пистолет и пулю за пулей стал всаживать в эсэсовца, который оказался его собственным отражением в большом зеркале между двумя этажами. И дальше — почти дословно, как у меня в рассказе, зеркало трескалось, лопалось, разваливалось на куски. Это напоминало еще один литературный источник, а именно «Милый друг» Мопассана. Там есть сцена, когда герой, впервые обзаведясь фраком, поднимается по лестнице и в большом межэтажном зеркале видит элегантно одетого мужчину, и не сразу понимает, что это он сам.
Пример второй. Я несколько раз слышал от него, что он родился в простой русской крестьянской многодетной семье, причем количество детей менялось от шести до одиннадцати. Но как-то, прочтя мой текст о моей родословной, он позвонил мне и сказал:
— Ты знаешь, я, между прочим, тоже сербского происхождения.
Я удивился.
— Да, мои предки были сербы Зиновичи, а потом уже переименовались в Зиновьевых.
Помоему, главной причиной его диссидентства было постоянное стремление к эпатажу публики. Поэтому он всегда говорил нечто противоположное тому, что от него ожидали. Будучи членом коммунистической партии, он объявил себя антикоммунистом. Приехав на Запад, стал ругать Запад и оказался в этом качестве вполне востребованным. Вернувшись в Москву, примкнул к партии Зюганова, стал говорить, что сожалеет о том, что он (именно он) разрушил Советский Союз, хотя это было мощное и хорошее государство, а эпоха Брежнева была выше похвал.
Я уже сказал, что его литературное наследие ценю не очень высоко, живопись — тоже. О его философии представления не имею и математической логике тоже. Но мне рассказывал мой близкий друг Валентин Турчин, физик и математик, что однажды, еще в начале семидесятых годов, в Москве, Зиновьев объявил, что решил теорему Ферма. Собрал несколько известных ученых, стал им демонстрировать свое доказательство, но оно было, по словам Турчина, просто смехотворным. С таким человеком судьба свела меня в Мюнхене. Одно время мы даже часто общались, то есть ездили друг к другу в гости и вместе отдыхали на море, но дружба наша близкой не стала — слишком мы были разные.
Прямо напротив нас живет Маша, бывшая колхозница со станции Мерефа под Харьковом. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Осталась, вышла замуж, родила дочку. Муж умер, второй тоже, живет с третьим. Онемечилась. С мужем говорит по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь вот появились у нее соседисоотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Ну, язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а смесь, называемая в тех местах, как гибрид ржи и пшеницы, суржиком. А теперь еще и немецкие слова намешались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер, там Москву показуют». Я написал о ней небольшой рассказ, где назвал ее Настей. Ктото этот рассказ услышал по радио, сказал ей, она прибежала взволнованная. Испугалась, что, прочтя мой рассказ, советские ее найдут, выкрадут и увезут в Мерефу. Стала спрашивать меня, правда ли я написал о ней. Я сказал: нет — и показал ей текст. Она увидела, что там написано «Настя» и успокоилась. Раз Настя, значит, правда не о ней. Ее муж херр Штробль торгует запчастями для кемпинговых прицепов, но главное его дело — это скачки, где он проигрывает все, что зарабатывает, и разведение кроликов без коммерческого интереса, а для души. Он их разделяет по половому признаку и держит в отдельных клетках, но они каким-то образом проникают друг к другу и плодятся. Содержание их обходится дорого. Маша предлагает выходы из положения: кроликов есть, продавать, раздавать даром. Штробль не соглашается ни на то, ни на другое, ни на третье. Маша не выдержала, поставила ультиматум: или я, или кролики. Муж сказал: кролики. И остался с ними и с Машей.