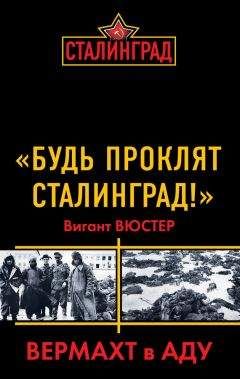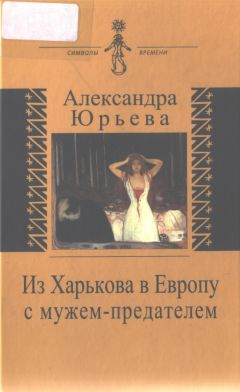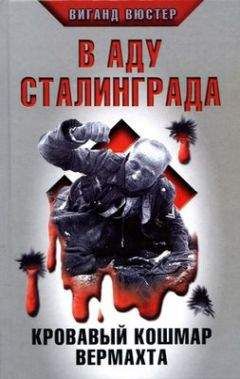В Геттингене нас встречала моя сестра. Ей за пару дней до того исполнилось 18, и я был потрясен тем, как она превратилась из младшей сестренки в женщину. Она была очень приветлива и даже держала в руках несколько цветов. Родителям понравился мой выбор, и они встретили нас тепло как никогда. В качестве меры предосторожности отец нанял детективное агентство разузнать о семье Бёкелей. Результаты его успокоили. Узнал я об этом уже позже, совершенно случайно. Может быть, родители хотели, чтобы я женился позже, из-за смутных времен, в которые мы жили, но они видели, как я был влюблен. Кроме этого, им понравилась Руфь.
Но теперь люди открыто стали говорить о превосходстве русских в искусстве зимней войны и о большом наступлении, которое замкнуло в окружении нашу армию в Сталинграде. Военные сводки по радио почти все были о Сталинграде. Я не мог в это поверить. Когда я уезжал, ситуация казалась устойчивой. Родители мои, однако, сомневались. Чему верить? Я не хотел, чтобы что-то омрачало время, проведенное с Руфью. Узнаю, что произошло, когда вернусь в Сталинград. Так что я не тратил времени на раздумья о войне — я жил сегодняшним днем и был более счастлив, чем когда-либо раньше. Объявления о помолвке, которые мы разослали, были написаны в самом традиционном стиле, но — по случаю ограничений военного времени — на мягкой газетной бумаге. Отец думал, что сначала помолвку должен одобрить мой командир полка. В общем, он был прав.
Но я об этом не знал и колебался: «Помолвки случаются неожиданно, как буря, потому что ничего нельзя предсказать, так как я могу просить разрешения, если я не знаю, когда состоится свадьба? До нее еще много времени — и, кроме того, мне вряд ли откажут в отпуске для свадьбы, когда у меня отец — государственный служащий и партийный функционер. Что еще им может быть нужно?»
Я тщетно надеялся, что в родительском доме мы сможем сойтись ближе, — этого не случилось. Мать все время была рядом с нами, или сознательно, или из любопытства, или из материнской заботы. Мы так и не продвинулись дальше поцелуев и объятий.
В те дни родителей могли наказать за «купеляй» (сводничество. — Примеч. пер .), если бы они позволили помолвленной паре спать вместе. Такие уж были законы, хотя их то и дело нарушали.
В госпитале в Геттингене я навестил одного-двух старых школьных друзей. Один из них, будучи пехотинцем, сильно обморозил пятки зимой 1941—1942-го, и ему несколько раз проводили ампутации. Война для него кончилась. Я еще не дошел до того, чтобы ему завидовать. Мы были еще молоды и не могли представить себе жизни инвалида. Другой мой друг был серьезно ранен в горло, но уже выздоравливал. Поскольку запасная часть нашего полка стояла в Геттингене, я зашел и туда. Я встретил множество товарищей по оружию, которые ждали назначения на фронт после выздоровления. Остальные так и не попадут на фронт. Они обучали молодых рекрутов. Мой однорукий радист теперь служил в чине унтер-офицера. Его, кажется, все любили. Мой старый командир, майор Футтиг, тяжело раненный в плечо под Киевом, был рад, когда я, проходя мимо, задержался около него. Я не стал говорить ему о проблемах с его преемником.
Там был и Кульман. Он был в прекрасном расположении духа и не торопился на войну. С другой стороны, Футтигу не терпелось обратно на фронт. Кульман днем муштровал новобранцев, а вечером любил ходить в старом Геттингене по многочисленным барам. Он получал от войны наслаждение и чувствовал себя в военной форме важной персоной. Как бывший госслужащий, он всегда чувствовал свою малозначительность, а теперь все было по-другому. Он был слишком милитаризован, хотя и не всегда в плохом смысле слова.
Конечно, я с ними выпивал, и мы были лучшими друзьями. Я больше их не видел. Футтиг был убит в Польше незадолго до конца войны, Кульман умер до того, как я вернулся из плена.
Мой добрый друг Клаус Петерс был в отпуске по ранению после легкой раны. Как же я был доволен, что могу с ним посудачить о своей прекрасной невесте. Клауса я тоже больше не видел. В 1944-м он погиб в России в чине пехотного лейтенанта. Родители его были старыми, а Клаус у них был единственным. Мать так и не оправилась от потери и ни с кем не хотела разговаривать об этом.
Последние дни отпуска, к сожалению, пролетели очень быстро, но это были лучшие дни моей жизни. Может быть, на будущий год мы поженимся. Многие молодые офицеры-фронтовики женились рано и оставляли молодых вдов, с детьми или без. На станции я поцеловал Руфь на прощание, и она исчезла… на годы. На долгое, долгое время все, что мне оставалось, — это воспоминания о ней.
Глава 5 Возвращение в «котел»
На следующий день я пустился в обратный путь на фронт, выбрав дорогу через Ганновер. В Ганновере я смог переночевать у бабушки и дедушки. За ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу, но этого было недостаточно, чтобы заставить меня выбраться из теплой постели. Без остановки грохотали зенитки. На Ганновер британские самолеты налетали часто, много домов было разрушено, много людей погибло, особенно в промышленных районах. А позже начался настоящий воздушный террор. Бабушка была очень встревожена.
Дедушка был в больнице с анемией, — возможно от плохого питания. Он был крупным мужчиной с округлой фигурой, привыкшим много есть. В городах это было уже невозможно. Он был счастлив увидеть меня и ждал возможности познакомиться с Руфью.
Эта встреча была, пожалуй, последней. Больше я дедушку не видел. Он снова поднялся на ноги, но умер летом 43-го, когда меня объявили пропавшим в Сталинграде без вести и дома все были уверены, что я погиб. Дедушка был бы рад увидеть меня во главе семьи.
В поезде до Берлина я сидел напротив моложавого оберст-лейтенанта из генерального штаба. Услышав о том, что я собираюсь вернуться в Сталинград, он сказал: «Вы не вернетесь оттуда целым. Сталинград окружен, и там нехорошо».
Это была первая достоверная информация. Пресса и радио в изобилии кормили нас чушью. Сплошные подвиги, совершенные несмотря ни на что.
— Знаете что? Лучше идите в свою запасную часть и доложитесь там. Так приказано сделать всем, чьи части теперь заперты в Сталинграде.
Я ответил:
— Как я могу это сделать, если у меня из документов только отпускное свидетельство? Появись я там, меня тут же обвинят в пренебрежении долгом. Я лучше положусь на бумаги, и посмотрим, куда они меня заведут. Может быть, к тому времени откроется дорога на Сталинград.
— Боюсь, что нет, — сказал офицер. — Вам нет смысла двигаться дальше. Вы можете сказать, что я разрешил вам остаться.
Он уже начал набрасывать на какой-то бумажке строчку за строчкой, но остановился, когда я ясно объяснил, что хочу вернуться на свою батарею. После этого мы успели поговорить на разные темы, и снова и снова генштабовский офицер озвучивал свой скепсис относительно шансов Германии выиграть войну. «Будьте здоровы и — удачи, она вам понадобится» — с этими словами он сошел в Берлине.