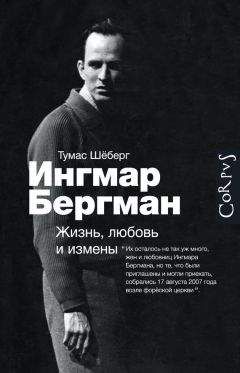Через три дня состоялся ужин для выпускников. В салоне на третьем этаже поставили длинные столы, декорированные васильками, нивяником, маленькими студенческими фуражками и свечами. Настроение царило радостное, веселое. Классный наставник, магистр Бредберг, произнес речь. Все казались счастливыми, девочки выглядели очаровательно и элегантно. “По-моему, все остались довольны”, – записала в дневнике Карин Бергман.
В конце июля она с двумя подругами уехала на месяц в Италию. В Южном Тироле они сделали остановку, и международная почта сумела благополучно переправить матери длинное письмо Ингмара Бергмана – в гостиницу “Торре” городка Гудон в итальянской общине Кьюза-д’Изарко, в двух десятках километров к северо-востоку от Больцано. Сам он проводил каникулы в Даларне, в Воромсе, на дувнесской даче, совершая оттуда велоэкскурсии.
С деньгами обстояло не лучшим образом. Трехразовое дневное питание обходилось в 3 кроны 25 эре, койка на турбазе – 50 эре, а завтрак навынос (хлеб, масло и термос с шоколадом) – еще 50 эре. Так что Ингмар Бергман взял в привычку есть дважды в день: завтрак в 9 часов и ужин около шести. Но жилось ему неплохо. Вскоре, писал он домой, объездит на велике всю округу. Он загорел, а временами лил такой дождь, что и купаться было незачем. Даларна показывала себя с худшей стороны, так он считал, но тем не менее признавал, что места здесь на редкость красивые. Родился девятнадцатилетний романтичный поклонник природы, и сообщения его полны восторга. Ему хотелось рассказать о своих открытиях, и почему-то все, что он считал важным, было предназначено исключительно для матери:
Путешествуя в этих краях, я, оказывается, кое-что для себя нашел. Этот могучий ландшафт с длинными холмами и дремучими лесами в каком-то смысле отвечает моему образу мыслей и чувств. Когда я вижу в зеленом лесном освещении огромный странный валун и слышу, будто он поворачивается под звон колоколов фалунских церквей, эта мысль завораживает меня. Я представляю себе, что в камне живет тролль, который, заслышав церковный благовест, мучится кошмарами. Ворочается в своем камне, и тот двигается. Однажды вечером иду один в лес, сажусь возле огромной гнилой сосны, чьи вывернутые корни тянутся в воздух. Смотрю прямо перед собой и совершенно уверен, что, если обернусь, увижу лесовичку – зеленоглазое существо с диким взором, рыжими волосами и оскаленными зубами, украдкой глядящее на меня. Фантазия, убаюканная фильмами, театром и большим городом, здесь, в лесах, просыпается и действует. Я чувствую себя абсолютно гармоничным, абсолютно счастливым и радостным. Я знаю, с человеком так бывает редко, знаю, что надо спрятать это в термос и сохранить. […] Порой просто необходимо пожить вот так. Без правил, без предписаний, когда ты сам себе хозяин, а не чей-то раб или господин. Мама ведь и сама видит, как здесь замечательно. Но я вовсе не хотел бы поехать в “la bella Italia”[11]. Отныне Даларна станет моим краем par preference[12]. Я правда думаю, что нашел здесь частицу себя самого. Надеюсь, это не химера, а реальность. Если так, то, пожалуй, мы с вами, мама, сумеем отныне лучше понимать друг друга. Да, это самое мое длинное письмо за все годы, таким говорливым я никогда раньше не бывал. Но мне хотелось, чтобы вы знали. Только это конфиденциально, строго между нами. Ваш Малец.
Вернувшись из Италии, Карин Бергман встретилась с младшим сыном в Смодаларё. Дневниковые записи свидетельствуют о гармоничных днях. “Ингмар и я! Сегодня мы погуляли побольше, а вечером я вышла на воздух одна. Мы говорили о том, что хорошо бы иметь желтенькую усадебку с белыми углами. […] Ингмар сегодня играет на органе. […] Мы с Ингмаром опять ходили на прогулку. У нас свои будничные привычки, и это так приятно. Только бы мне остаться такой в городе, тогда бы я сохранила его”.
Есть множество возможных объяснений тому, что эмоциональная жизнь Ингмара Бергмана кипела ключом. Одно из них – он встретил девушку. Вернее, он знал ее по школе и начал ухаживать за ней сразу после выпуска, когда прекратил контакты с Анной Линдберг, о которой недолгое время с ужасом думал, что она ждет от него ребенка.
Марианна фон Шанц (“Сесилия фон Готтхард”, как она зовется в “Волшебном фонаре”) была рыжеволосая, остроумная, находчивая и значительно более зрелая, чем он сам, пишет Бергман в своих мемуарах. Задним числом он не понимает, почему из всех кавалеров она выбрала именно его. Он считал себя скверным любовником и еще более скверным танцором, который вдобавок непрерывно говорил о себе.
Марианна фон Шанц жила с родителями в помпезной, однако унылой квартире в Эстермальме, пока ее отец однажды не угодил в психиатрическую лечебницу, сделал там ребенка одной из медсестер, а затем сбежал в провинцию, подальше от столицы. Мать после скандала заперлась в квартире, выходила редко и выказывала признаки душевной болезни.
Пока Карин Бергман находилась в Италии, сын прислал ей еще одно длинное письмо. После “несколько кургузого” путешествия по Даларне он очутился в Смодаларё. Почему путешествие вдруг было прервано, неясно, но так или иначе теперь он сидел с отцом на семейной даче в шхерах, и отношения у них были, мягко говоря, прохладными:
Когда я свалился отцу как снег на голову, он решил, что я замыслил какую-то каверзу, а потому разозлился и принялся докапываться, в какой мере я потчую его небылицами. К тому же он считал, что я вполне мог закончить путешествие в одиночку, вместо того чтобы являться вот так домой и мешать его душевному спокойствию. Я что, обидел его?.. Der einmal lügt, dem glaubt man me[13]. Да-да. Что ни говори. Приехал Даг, а папа с сестрой уехали. Я махнул в Грипсхольм и обратно. Мама, вы же знаете, преступникам положено отмечаться в полиции – иногда раз в день. Мне пришлось каждый день писать отцу коротенькое письмецо, докладывать, что я делал. Ах, сколь доверительные отношения между отцом и сыном! – воскликнула Курц-Малер [Хедвиг, немецкая писательница. – Авт.]!!
Бергман писал, что ел, спал, купался – и снова ел. Потом перешел к делу:
Временами я просто становлюсь слегка романтичным. Сижу в одиночестве и немножко тоскую по девушке с рыжими волосами. Вообще-то совсем на меня не похоже. Хотя и проходит очень быстро. Кстати, по-моему, она замечательная, несмотря на то что отец в людях никогда не разбирался. Но чтобы не ухудшать положение, я опять твержу, что виноват я и только я. Его ровная вежливость к Марианне и мелочная недоверчивость ко мне, по части которой у меня есть новый восхитительный пример, порой злят меня до крайности. Но я молчу, тихонько сижу в кресле. Но не ради себя. В целом все хорошо, и никакого “вооруженного нейтралитета” между нами нет. Наверно, отец нипочем не откажется от убеждения, что Марианна сделала меня первым лгуном в классе. Впрочем, что значит его мнение? Легкое ощущение недовольства.