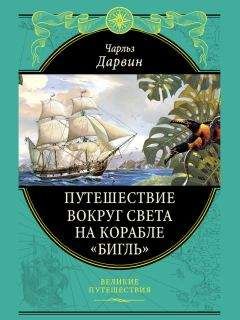Но Керри, когда дело касалось чего-то важного, не шла на сделки с совестью, и, поскольку какое-то время не могла больше исполнять работу для миссии, она позволила Эндрю взять только половину их скудного жалованья. А потом, распрощавшись со своими немногочисленными друзьями, они наняли джонку и поплыли вдоль побережья. Керри не знала, выпадет ли ей когда-нибудь увидеть этих людей, ставших такими привычными за то время, что они изо дня в день общались между собой. Однако гордость и решимость не позволяли ей выдать, что у нее на душе.
По ее словам, в этой джонке, как водится, кишели крысы, и они всю ночь бегали у нее над головой по низким траверсам, а однажды ночью Керри вдруг разбудила большая крыса, запутавшаяся в ее длинных локонах. Керри запустила руку в волосы, схватила ее и бросила на пол, но когда она почувствовала у себя в руке гладкое, пытающееся вырваться тело, ее затошнило и она испытала такое отвращение, что в эту минуту охотно отрезала бы себе волосы.
В устье реки они пересели на корабль, шедший в Чефу, морской порт на севере, на берегу залива. Но я бы хотела напомнить, что за день до отплытия она увидела в Шанхае, в лавке подержанных вещей, овальный стол и, очарованная его изяществом, выторговала его у скрюченного старика, владельца лавки. Это неприятно поразило Эндрю, для которого стол был просто стол и ничто иное; у них и без того вещей было в избытке. Его бы воля, он взял бы с собой легкую сумку, немного денег и Писание. Но для Керри этот шедевр краснодеревщиков был источником наслаждения, и, когда ее одолевала морская болезнь, она утешала себя тем, что в трюме стоит, во всем своем великолепии, ее стол с тонкой резьбой и безупречно гладкой столешницей.
В Чефу они первым делом принялись за поиски дома. Эндрю хотел поселиться у холмов, на повороте дороги, поближе к китайскому городу, но Керри не согласилась. Она так ослабела от болезни, что ей теперь предстояло бороться за самое жизнь, и надо было найти место, которое помогло бы ей в этом поединке. К тому же Эдвин полгода назад перенес дизентерию и все еще не оправился от этой скверной болезни; он страшно исхудал, побледнел и еле держался на ногах.
Когда она рассказывала мне об этом, в глазах ее появились жалость и нежность. «Бедный мой малыш, — говорила она. — Ему была предписана голодная диета, и он все время хотел есть. Как-то раз он увидел кусочки чего-то белого на полу столовой, нагнулся, смочил языком указательный палец, поднял их и сунул в рот. Он решил, что это крошки печенья, и, когда обнаружил, что это всего лишь кусочки извести, отвалившиеся от побелки, горько расплакался. У меня сердце разрывалось».
Она мечтала перенестись вместе с сыном через моря и сушу в свой родной дом, в просторные комнаты своего детства. Но раз уж это было невозможно, она выбрала дом на холме, с видом на море, овеваемый свежим ветром океанских просторов и недоступный зловонию человеческих обиталищ. Эндрю надо было всего только чуть дольше добираться до места службы.
Дом, в котором они поселились, был каменный, в один этаж, с большой террасой; он стоял на скале, обрывавшейся к глубоким, прозрачным голубым водам и набегающим пенистым волнам. Вместе с песчаным садиком его огораживала стена, оберегавшая детей от опасности, но не настолько высокая, чтобы помешать Керри опереться на нее и глядеть вдаль, отдаваясь грезам о любимых берегах за десять тысяч миль отсюда.
С этой поры она посвятила себя спасению собственной жизни. Эндрю не сознавал, насколько она плоха, но она отлично понимала, что боль в боку, постоянный сухой кашель, слабость и лихорадка, не оставлявшие ее ни на день, предвещают недоброе. Она попросила вынести ее кровать на террасу и поставить на кирпичи, чтоб стена не закрывала от нее море и небо.
Справа от нее вздымали свои широкие голые плечи рыжеватые горы, но китайский город, лежавший у их подножия, не был виден. Она этого и хотела. Ей, чтобы не умереть, надо было забыть людные улицы, нищих слепцов и все те печали и беды, которые рвали ей сердце; ей не под силу было всерьез с этим справиться. Но даже здесь, вдали от этого грустного зрелища, она все же не могла выбросить всего этого из головы.
Эндрю тоже видел этих несчастных, думала она, и молился за них, что и служило ему утешением. Бог спасет их души, на небесах они будут счастливы. Но Керри молилась с чувством, которое было сродни негодованию, ибо большая неправда была уже в том, что небо примирялось с подобными бедами, и никакие молитвы не могли стереть в памяти то, что происходит в земной юдоли. Более того, если Бог, как говорит Эндрю, узаконил такие страдания ради собственных мудрых целей, это отнюдь не облегчало муки трепетной плоти, не зажигало светом слепые глаза, не возрождало к новой жизни людей раздавленных и угнетенных. Но дальше этих сомнений она не позволяла себе идти, а ответ искать было негде. Она боролась с собой, как привыкла за годы молитв в деревенской церкви, и приучалась к покорности.
— Я должна просто верить и не роптать, — говорила она, увещевая свое непокорное сердце.
Но, в отличие от Эндрю, она видела не одни лишь людские души и не могла просто уйти к себе в комнату, помолиться и выйти довольной. Нет, если ее собственное тело не выдержало житейских тягот, то это потому, что ей не терпелось, где она только могла, мыть, перевязывать раны, лечить, давать лекарства больным; если же она видела, что человеку не дано избавиться от боли и смерти, она плакала, словно все это выпало на долю ей самой.
Она при мне просидела как-то всю ночь у постели умирающего младенца и, когда на рассвете ребенок умер, схватила маленькое смуглое тельце и зарыдала от горя и чувства бессилия. Она рассказала об этом Эндрю, и тот, удивленно подняв на нее глаза, спокойно изрек:
— Но ведь свершилась Господня воля, и ребенку лучше на небе, — она же выпалила ему в ответ:
— А ты думаешь, сердцу матери, которая не сможет больше прижать к себе свое дитя, от этого легче? — И тут же, спохватившись, поправилась:
— Я знаю, что дурно так говорить. Я знаю, надо сказать: «На все Господня воля», но это не заполнит опустевших сердец и рук.
Я слышала, однажды кто-то сказал об умершем ребенке: «Тело ничто, когда ушла душа». Но Керри сдержанно возразила: «Разве тело — ничто? Я любила тела своих детей. Мне невыносимо было видеть, как их опускают в землю. Я произвела их на свет, беспокоилась о них, мыла их, одевала, окружала заботой. Их тела были дороги мне».
Для нее, которая по своему добросердечию неспособна была навредить живому существу, горе и смерть так и остались чем-то непостижимым. С тех пор, как ее воспитали в вере, ей так и не удалось постичь Бога.