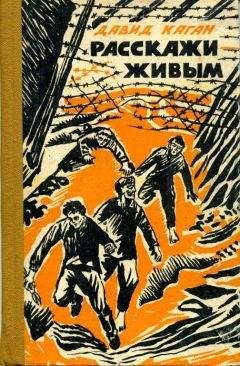Соня привязалась к Сашке со всей доверчивостью молодой, одинокой души. Она готова была идти за ним хоть в лагерь, за проволоку. Хороший парень, такого полюбишь! Хотя и иссушила его брюква, но сохранились стройность фигуры, улыбка, живость характера. Про Соню он мне рассказал однажды, показал ее фото. Тогда же я спросил; делился ли он еще с кем о ее национальности?
— Никому, никогда! — ответил он сердито и быстро спрятал фотографию.
Я верю в него, приходилось несколько раз убеждаться, что Сашка противник всякого рода шовинизма. Тут он был бескомпромиссен и разделывал того, кто на примере двух-трех плохих людей огульно охаивал, целый народ, нацию.
— Ты на себя посмотри, зануда! — кричал Сашка. — Если у человека отец-мать другой национальности, так он хуже тебя?!
Про отправку говорят все настойчивей. Всех пленных фотографируют, каждому выдают металлическую пластинку, на которой выбит номер лагеря и личный номер пленного. Фотокарточки хранятся в комендатуре, а пластинка со шнурком, — ее нужно всегда носить на груди. Побросав в рвы и траншеи сотни тысяч военнопленных, не ведя при этом никакой регистрации, немцы с весны 1942 года стали учитывать пленных по номерам и фамилиям, да еще и фотографировать. К этому времени едва ли десятая часть пленных осталась в живых. Побоялись ли немцы заявления Советского правительства, слухи о котором дошли и до нас, или, может быть, посчитались с тем, что немало и их солдат и офицеров находятся в плену. Скорее всего это было связано с формированием колонн для предстоящей отправки на работы в Германию. Такой порядок в фашистской империи: всех нумеровать. На моей пластинке выбито. Stalag 324. И ниже — 27556.
Пасмурный день конца марта, На этот раз построение лагеря срочное, внеочередное. Длинная колонна пленных опоясывает площадь лагеря. Уже час стоим под мелким дождем, поднятые воротники шинелей и нахлобученные на лоб пилотки и буденовки не спасают от холода.
Через ворота въезжает черный лимузин и останавливается посреди площади. Из машины вылезает широкотелый офицер с серебристыми погонами, за ним — дюжий солдат. Они становятся рядом. Каждую фразу офицера солдат тотчас переводит на русский язык.
— Слушайте внима-а-тель-но-о! — угрожающе кричит офицер. — Вас скоро повезут в Германию. Там вы будете работать. Знайте же за-ко-ны Гер-ман-н-ской импери-и! — Офицер делает паузу, подчеркивая всю важность предстоящего сообщения. Одной рукой ухватил ремень на животе, другую сжал в кулак и держит на отлете. Лицо темное, а может, просто небритое, — издали не видно.
Рот фашиста снова раскрывается:
— Каждый из вас, кого заметят в разговоре с немецкой девушкой или женщиной, будет наказан палками и заключен в тюрьму!
Пока переводчик пересказывает, его начальник, наклонившись, всматривается в колонну. Кажется, он вот-вот сорвется с места и ринется вперед. Люди слушают молча, понуро, с одной мыслью; когда окончится стояние под дождем и снова отведут под крышу.
— Каждый из вас, кого уличат в сожительстве с женщиной немецкой крови, будет повешен! — кулак нациста взметнулся вверх. — Запомните сами и передайте другим!
Переводчик повторил и тоже угрожающе взмахнул рукой.
— Нам бы хлебца-а... — нарочито тягуче произносит кто-то в колонне позади меня. Лица пленных вживляются, раздается сдавленный смешок... Русский человек и в таком положении не теряет юмора.
Офицер и переводчик еще минуту рассматривают заключенных, затем усаживаются в машину, — офицер впереди, переводчик на заднее сиденье.
Медленно переставляя ноги, все расходятся по блокам.
— Ну, идиоты! — ругается Баранов, идя рядом. — Читал когда-то рассказ Лескова «Железная воля», про полусумасшедшего немца. Но от того, помню, большой беды не было, он ведь власти не имел.
* * *
Лагерная территория вся вытоптана, травы мало, но сейчас весна и кое-где пробивается зелень. Вместе с больными отыскиваю молодые побеги лебеды. Лебеда мягкая, с покрытыми сероватым пушком листьями. Побольше ее у проволочной ограды, но туда подходить опасно. Когда сваришь — кушать можно, хотя и горькая. Однако сытости нет, только живот пучит. Некоторые больные варят лебеду по два раза в день и им приходится объяснять, что большие количества этого сорняка могут вызвать отравление.
Больных тифом в лагере стало меньше. На оставшихся в живых, по следам сыпняка и голода, пришла другая эпидемия, — туберкулез. Туберкулез во всех формах, с разными осложнениями. Участились кровохаркания, легочные кровотечения. Для больных с выраженным процессом Блисков отвел нижний этаж нашего подъезда, а тех, у кого нет туберкулеза, перевели в другие отделения. Врачей двое — я и Семирханов. Он терапевт, работал в Казани, в армию призван перед войной. Старше меня, наверно, вдвое, низкорослый с большой лысиной. За нами и те отделения, где мы работаем, а туберкулезное — дополнительно. Больные, лежат на тесно сдвинутых деревянных нарах, в узких проходах, расставлены жестяные плевательницы. Трудно попасть туда плевком с верхних нар и часто брызги мокроты летят на лежащих внизу. Тесно, воздуха мало, а главное — голод: одна брюква, как прежде. Хлеб стал хуже. Не хлеб, а черная масса, сырая, тягучая. Если сложить две спичечные коробки вместе — это и будет размер пайка на день.
Мы с Семирхановым решили идти к Блискову. Знаем, что он не хозяин, судьба больных зависит от начальника лазарета Шольца — немецкого врача в чине старшего лейтенанта, но попытаться надо. Блискова нашли в хирургическом отделении, у Иванова. Иванов болен, у него сердечный приступ, он не встает. Блисков сидит рядом и старается успокоить и чем-нибудь развлечь товарища. Хирург грустными глазами смотрит на нас, лицо его бледное, с синевой на губах.
Рассказываем о положении в туберкулезном отделении.
— Может быть, дадут с кухни еще пол-литра баланды туберкулезному больному? Неужели Шольц не разрешит?, — спрашивает Семирханов.
— Разрешит?! — саркастически произносит Блисков. — Я уже разговаривал, знаю... Он и слышать не хочет о туберкулезных! — Блисков встал, отошел от Иванова. — По их, взглядам, каждый туберкулезные больной должен умереть, и чем скорее, тем лучше. Они и своих не очень жалеют. Дескать, сама природа заботится о здоровье нации, поражая неполноценных людей туберкулезом. У них такие теории... — Он закашлялся, подождал, пока утихнет одышка. — Теперь о лекарствах.. Ивановский говорит, что в аптеке был креозот, наш, советский. Шольц его забрал, когда осматривал аптеку. В городе лекарств нет, он сумеет погреть руки и на этом.
Мы вернулись в отделение ни с чем.