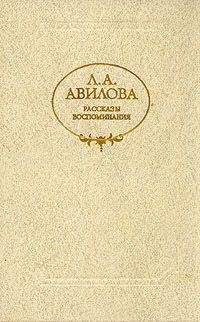Посмотрите, господа, на сцене «не пьесу»! Может быть, если мы научимся слушать и понимать людей, настоящих людей, которые один вечер будут жить для нас своей настоящей жизнью на подмостках театра, если мы научимся слушать и понимать, мы научимся также любить и прощать. Может быть, после таких «не пьес» мы и вокруг себя увидим то, чего не видали раньше, услышим то, чего не слышали.
А настоящих пьес будет еще много, очень много.
Вспоминается вечер зимой, когда все дома и сидят вокруг чайного стола. Миша ходит по зале. Ему тогда тоже вспоминалось, и он рассказывает про прошлое, про Караичку[67], про лошадей, про Макарыча. Потрескивает печь в передней, обваливаются прогоревшие уголья. Тилька, сидя на стуле, нетерпеливо ждет подачки, облизывается и подвизгивает. Стул под ним дрожит и стучит. И вдруг мягко, гулко бьют большие часы.
После обеда затапливают камин и, завернув электричество, мы пьем кофе при свете пылающих дров, заняв каждый свое привычное место. Отец всегда сидит в кресле, прямо против камина и смотрит в огонь; я занимаю свой любимый уголок дивана. Нина приваливается к моему плечу, обе наши собаки ложатся на ковре, а Лодя занимает кушетку, подсовывая подушки и под голову и за спину. Он лежит и часто засыпает крепким сладким сном…
Да, давно это было! Собираясь укладываться спать, мы вдруг заметили, что Тильки нет на его месте. Стали звать, искать по всему дому, но он так и не нашелся. Нина и я решили идти его искать. Была холодная, морозная, зимняя ночь, ярко светила полная луна; на улице было безлюдно, тихо, светло, бело. Мы прошли немного в одну сторону, прошли в другую, завернули в переулок и, убедившись, что наше предприятие вполне безнадежное, вернулись к нашему дому. Калитка была отперта, мы вошли во двор и уже без всякой надежды, просто для очистки совести, опять стали звать Тильку. На дворе тоже было светло, бело, безмолвно. В окнах нашего дома и флигеля уже не светилось огней, на панель вдоль въезда в ворота легла черная тень, а широкое пространство снежного двора было ярко залито лунным светом. Мы вышли на этот простор, отбрасывая от себя черные тени, постояли, посмотрели и, точно молча условившись в чем-то, стараясь тише скрипеть по мерзлому снегу, прошли обратно через калитку на улицу. Завороженный луной белый двор требовал тишины и торжественности.
В доме все уже успели лечь, и мы с Ниной поцеловались и разошлись по своим комнатам. А Тильки не было, и неприятно было думать, что в эту морозную ночь он без приюта, может быть, искусанный, замученный и, во всяком случае, несчастный и голодный.
— Ну, сам виноват! — сказала Нина, утешая себя своей суровостью.
— Конечно, сам виноват, — согласилась и я.
Но обеим нам было неприятно и мы обе старались, но не могли забыть, что Тильки нет.
Потушив электричество, я, уже лежа в постели, все прислушивалась к внешним звукам, но царила полная, зимняя тишина. В щели неплотно задернутых занавесок двумя полосами проникал яркий лунный свет, и в теплой темной комнате странно близким и далеким казался белый, снежный двор, залитый лунным светом, звонко скованный морозом, завороженный торжественной тишиной.
Я уже перестала прислушиваться, ждать и соображать, вероятно, я уже заснула, когда вдруг знакомый лай дошел до моего сознания. Может быть, я уже давно слышала его, но не понимала. Конечно, это лаял Тилька, лаял отрывисто, осторожно, не громко. Так стучат ночью в дверь, чтобы разбудить, но не испугать.
Я вскочила, отодвинула штору и открыла форточку. Тилька стоял у двери в кухню, и его маленькая фигурка была вся отчетливо видна. На стук форточки он быстро повернул голову и напряженно замер.
— Откроешь? — спросил он всей своей позой.
— Не смей лаять, молчи, — тихо сказала я ему, — сейчас оденусь, открою.
Он понял, повернулся носом к двери и поджался так, будто у него не было даже обрубочка хвоста. Он так чувствовал себя виноватым, достойным наказания и хотел избегнуть этого наказания. «Устал, как собака, — наверно думал он, — издрог, изголодался, места живого в теле нет, а мне еще мораль преподавать будут».
Закрывая форточку, я видела на снегу его фигурку и точно читала его мысли.
В сенях было темно и холодно. Я зажгла спичку, чтобы найти крюк от двери. И едва я откинула крюк и приоткрыла дверь, как Тилька скользнул мимо меня и сейчас же пропал в темноте. Я хотела и не успела шлепнуть его.
— Дрянь! — сказала я ему.
Он лежал в ванне на полу и, когда я вошла, поднял голову и посмотрел мне в глаза.
— Пить хочешь? — спросила я.
Но до чего же он хотел пить, несмотря на мороз! Как он пил! Долго, жадно.
— Дрянь! — тихо говорила я ему. — Где ты шляешься? Что это за идиотские увлечения? Ведь ты маленький, сравнительно слабый. Сколько собак больше и сильнее тебя! На что ты надеешься, дурак? Загрызут тебя до смерти, а твоя красавица даже не заметит тебя.
Он на миг перестал пить, поглядел на меня и осторожно встряхнулся. Эта осторожность подтвердила мое предположение, что для него не все обошлось благополучно, что он был покусан.
— Ладно. А что прикажешь сделать с инстинктом? — спросил его взгляд.
Он стал опять лакать, но уже вяло и лениво и сейчас же бросил и повернулся, поджав одну лапу, опустив голову и изогнувшись в крючок. Я стояла в дверях ванны, в комнате было светло, и он понимал, что проскользнуть мимо меня безнаказанно ему может и не удаться.
— Скучны эти разговоры! — ясно говорил он. — Дай ты мне пробраться до своего места. Ведь не прошу я у тебя есть, хотя и голоден до смерти, так хоть отвяжись от меня с нотациями и наказаниями.
Медленно переступая, с обвисшими ушами, с поджатым хвостом, с низко опущенной головой, но с настороженным взглядом умных, лукавых глаз, он прокрался несколько шагов и остановился.
— Играю в смирение. Что же делать? — поняла я. И мне стало его жалко.
— Есть-то хочешь? — спросила я.
Морда сразу поднялась, уши насторожились, в глазах блеснул самый решительный, утвердительный ответ.
— Хочу, конечно! Но разве дашь?
— Подожди.
Я прошла к буфетному шкапчику в коридоре, опять зажгла спичку и взяла с тарелки пару пирожков. Тилька уже стоял за мной, но как только я обернулась к нему, он присел и, облизываясь, мяукнул, как кошка. Съел один пирожок, съел другой и благодарно повилял обрубочном хвоста.
Я отворила ему дверь Левиной комнаты, где он всегда спал на диване, в пролежанной им дыре, и он трусцой побежал к своему месту, приготовился, с усилием прыгнул и громко, с облегчением и наслаждением закряхтел.