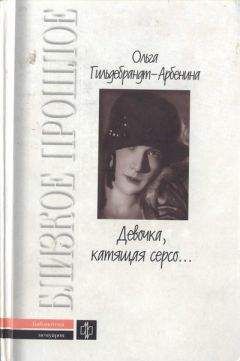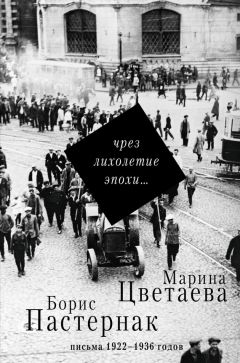Были и другие стихи и слова. Я не помню. Но когда все было кончено, он сказал страшное: «Я отвечу за это кровью». Он прибавил печально (и вот это было гораздо важнее): «но я люблю все еще больше»[75].
Я не помню, почему я стала опять «бегать» от Гумилёва. Не помню, как он меня выследил и вернул.
«Что же сон? Жестокая ты или Нежная и моя?»
* * *
Стихи Ахматовой о нем:
Все равно, что ты наглый и злой…
Все равно, что ты любишь других{140}…
Наглый? Боже сохрани! Никогда!
Злой? В те месяцы 20-го года? Никогда! Никогда!
Как будто капля ртути покатилась по своему руслу…
Счастья в моем понимании «Sturm und Drang’a»{141}, когда все движется и переплескивается через край, быть не могло. Оно было где-то за рубежом нашей жизни, нашей родины. Лицо Гумилёва, которое я теперь видела, было (для меня) добрым, милым, походило, скорее, на лицо отца, который смотрит на свою выросшую дочку. Иногда слегка насмешливым[76]. Скорее — к себе. Очень редко — раз или два — оно каменело. Мне нравилось его ироническое и надменное выражение «на сторону».
Мы много говорили… но, главное, о любви[77].
Если представить себе картину, изображающую море, — то это большое пространство, залитое синей краской, и в нем рассыпанные маленькие рисунки кораблей и лодок, — то вот так мне приходится «выскабливать» из этого моря разговоры о литературе, о других людях, о событиях дня. Так было с ним, и то же было и с другими людьми, потом. Очень стыдно, но мне этот разговор никогда не надоедал[78].
Мы много ходили.
Он велел мне креститься на церковь Козьмы и Демьяна на б. Кирочной{142}. В моем детстве я видела как-то в садике у этой церкви расцветший цветок красно-розового шиповника. Еще там был памятник — будто птица?.. Теперь церкви этой нет. Другая церковь была близко от его улицы, на Бассейной{143}, здание существует, но без церкви.
Помню, весна двигалась быстро, рано стало зеленеть. Он сказал мне: «Вот видите, Юг вас услышал и идет вам навстречу»[79].
Ему еще нравился Данте Габриэле Россетти (с его ранних лет).
Я знала все его критические статьи из «Аполлона»[80]. Я спрашивала его мнения, не изменились ли с годами?
Он часто говорил о Чуковском как об интересном собеседнике.
Помню смешное: «Мне достаточно вас одной для моего счастья. Если бы мы были в Абиссинии, я бы только хотел еще К. Чуковского — для разговора»[81]. Рассказал, что, когда он был в Англии{144}, встречался там с К. Набоковым. Тот вспоминал: в России у меня было только два друга — К. И. Чуковский и покойный Н. Ф. Арбенин. — «У Арбенина хорошенькая дочка». — Набоков, равнодушно: «Да, какие-то дети были». К. Набоков занимал тогда какой-то пост в Лондоне (он — дядя писателя Набокова).
Его любимая героиня Шекспира — Порция. Он восхищался ее скромностью. (Странно, конечно, все мы хотим быть не тем, что нам дано! Могущественная красавица Порция выбирает Бассанио{145} за его красоту. Больше ничем особенно Бассанио не примечателен.) Другая его любимица — Дездемона[82].
У него было благоговейное отношение к Гёте, Я тоже любила Гёте, как совсем «своего». Первые стихи, которые я помню (лет 3-х) — «Kennst du das Land…»{146}. Я даже свое что-то присочиняла, об Италии… Еще в детстве.
Но еще больше (уже с детства) меня пленяла Греция. Мы говорили о Греции. Илиада, мифология. Больше всего хотелось в Грецию:
И мы станем одни вдвоем
В этот тихий вечерний час,
И богиня с длинным копьем
Повенчает, для Славы, нас[83]{147}.
У него была верная любовь к Абиссинии, а из новых невиданных краев ему очень хотелось побывать на Яве. Привлекал яванский театр теней. В детстве ему нравились книги путешествий и рыцарские эпохи, а также 17-й в. Любил он и Майн Рида[84].
* * *
Разговор о возрасте. Он считал, что каждый человек имеет свой, коренной и иногда вечный, возраст.
Так, у Ахматовой был возраст 15, перешедший в 30.
У Ани — 9 лет. У меня тоже 15, перешедший в 18.
У него самого — 13 лет.
«А Мишеньке (Кузмину) — 3 года! Как он с детским интересом говорит с тетушками о варке и сортах варений!»
* * *
Вспоминая детство, все, что у него в стихах. Любимая рыжая собака.
Но надо вспомнить «вокруг» «Заблудившегося трамвая», с которым он явился за мной в театр.
О нем говорилось всегда очень много, как о заядлом Дон Жуане.
Рассказывали о флирте с «рыженькой» поэтессой (Одоевцевой), но фамилии не говорили. Я с конца 1919 г. попала «обедать» в Дом литераторов, на Бассейной{148}. Там кишело сплетнями.
Был вечер поэтов, и много фамилий на афише. Фамилия участницы с именем на «М» (Машенька) была Ватсон. Я взбесилась. На Бассейной меня поймал Гумилёв и стал расспрашивать. Он меня не мог разыскать. Я пряталась. Я по-идиотски разревелась и закричала: «Уходите к своей Машеньке Ватсон!»[85] Он ужасно хохотал, помню, говорил: «Я ненавижу сцен ревности, но у вас и это совершенно очаровательно!» — И показал мне вскоре и познакомил с М. В. Ватсон.
* * *
Другой случай был «тяжелее».
Я немного говорила с Гумилёвым в театре и в Доме литераторов, но так как мы вечно ходили вместе, а кое с кем из подружек все-таки я кое-что говорила, то (а люди сплетничали со злом, как комары, все вокруг так и вилось) как-то Лена Долинова[86] передала мне, что служившая с ней на одной работе Мария Ахшарумова похвасталась, что Гумилёв читал ей за ужином «Заблудившийся трамвай» и намекал, что это о ней.
Я опять «поговорила» об этом. Вот тут у него окаменело лицо. Лена передала, что Гумилёв как бешеный ворвался на их службу и наорал на М. Ахшарумову, а она упала в обморок.
Восторг Лены от такой сенсации!
Я же побежала в мой любимый дом Каннегисеров[87] на Саперном. Тут у меня был настоящий припадок с воплями. Loulou[88] хохотала: «Как такая хорошенькая девушка рыдает из-за такой обезьяны!» — но Аким Самойлович, отец Лёвы, старый красавец, взял меня на руки и носил по квартире, чтобы успокоить.
А как я помирилась с Гумилёвым? Конечно, очень нежно. Он мне объяснил, что жалеет только о том, что не сможет больше бывать у доктора Ахшарумова, отца «Машеньки». И умолял не слушать сплетен.