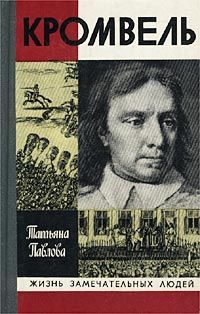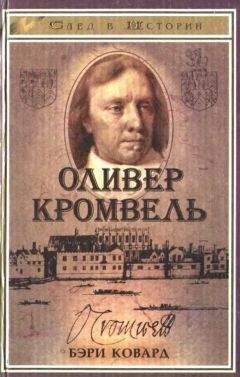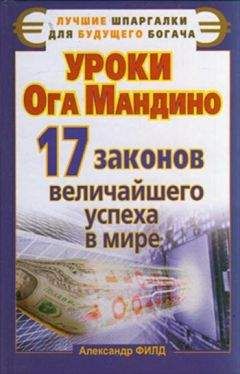Однако все эти поразительные успехи отнюдь не мешали Кромвелю ссориться с парламентом и все больше расходиться с ним.
Мне думается, что этот спор протектора с республиканской партией имеет большой исторический и даже философский интерес. Поэтому придется подробнее остановиться на нем.
Мы уже видели, что английская революция преследовала две цели: во-первых — восстановление старых английских вольностей (сюда надо включить параграфы Великой хартии и принципы самоуправления); а во-вторых — свободу совести. К этому постепенно присоединились пункты радикальной программы: уничтожение феодализма, королевской власти, государственной церкви и палаты лордов.
Революционным принципом было проведение в жизнь личного начала. Свобода совести и мысли, книгопечатания, митингов, равноправность всех перед законом, уничтожение привилегий крови и другие требования радикалов призваны были расширить сферу прав каждого отдельного человека за счет сословного или государственного начала.
Было время, когда Кромвель несомненно и очевидно сочувствовал всем этим принципам. Но между Кромвелем – полковником парламентской армии, другом Лильборна и Гаррисона, и тем же Кромвелем – лордом-протектором Англии – разница очень существенная. Но к чему она сводится – к принципу или форме? Главным образом, к последней. Он прекрасно знал, что его упрекают в деспотизме. Лильборн его власть называл “новыми цепями Англии”. Эти упреки повторялись беспрестанно и были неприятны Кромвелю. Протектор постоянно оправдывался, даже в то время, когда, находясь на вершине могущества и славы, он бы мог обойтись и без всяких оправданий. Все свои деспотические меры Кромвель объясняет тревожным положением государства. Он не устает возвращаться к этому пункту. Было ли оно на самом деле? Но задать подобный вопрос – не то же ли самое, что спросить себя: “Были ли роялистские заговоры? прекратились ли претензии Карла II? успокоились ли епископалы и паписты? выдумал ли Кромвель движения анабаптистов, левеллеров, милленариев? вернулась ли Англия сразу к своему обычному состоянию, или же, напротив, революционная искра тлела под развалинами прежних учреждений, готовая ежеминутно разразиться новым пожаром? чего, наконец, хотел народ, самая нация – скорого и правого суда, покоя и отдыха или продолжения революции coute que coute?[14]” Стоит задать себе эти вопросы, чтобы немедленно же получился вот какой ответ: большая часть произвольных мер лорда-протектора на самом деле объяснялась ужасным состоянием государства, в котором, по-видимому, было забыто самое слово “порядок”. Не миф и не выдумка Кромвеля все эти заговоры, этот раздор партий, готовых ежеминутно, как он говорил, перегрызть друг друга, эти грабежи и убийства, эти претензии каждого мало-мальски выдающегося человека забраться на высшее место, чтобы немедленно же переменить все по-своему.
Одинаково несомненно, что деспотизм Кромвеля объясняется и элементарнейшим чувством самосохранения. На самом деле ему предстояла дилемма: или упрочить свою власть до той степени, когда она станет выше всяких посягательств, или же рано или поздно отправиться на эшафот. Казнь Карла была сожжением кораблей. После нее возвращаться назад было невозможно. Примирение с Карлом II, которое в идее соблазняло многих дипломатов, задумавших даже бракосочетание младшей дочери протектора, леди Франциски, с наследником Стюартов, принадлежало к области утопий. “Карл, – говорил Кромвель, – никогда не простит мне смерти отца, а если бы он простил, то был бы недостоин короны”. Чтобы поддерживать свою власть, Кромвелю надо было постоянно усиливать ее. Эта логика была продиктована роковой необходимостью. Ведь его власть, в сущности, не признавали, ей только подчинялись. При малейшей неудаче, при малейшем ослаблении она рассеялась бы как дым. Протектор это прекрасно понимал. Он видел, какое громадное, неодолимое преимущество имеют перед ним Стюарты. Это было преимущество традиции – величайшее из преимуществ по своей интенсивности, упорству, настойчивости. Власть же Кромвеля опиралась лишь на его гений да на успех революции, которую большинство к этому времени успело уже возненавидеть. Там, где законному королю достаточно было сказать одно слово, протектору приходилось двигать пятидесятитысячную армию и напрягать все усилия своего гения. Ему не прощалось ничто. Все с нетерпением ждали, когда же наконец счастливая звезда изменит ему, когда его зарежет нож заговорщика, разобьют испанцы, взорвут паписты или сектанты? Это было поистине трагическое положение. Кромвель отличался слишком проницательным умом, чтобы удовлетвориться внешней покорностью и почить на лаврах. Он прекрасно знал, что для него почить на лаврах – это очутиться в Тауэре, а потом – на эшафоте. Скрыться в собственном ничтожестве было нельзя; для примирения надо было вернуть все прошлое. Да он и не хотел примирения!..
Не забудем еще династических интересов лорда-протектора. По этому поводу Гизо пышно выражается: “Вместе с тем, простирая свое честолюбие за пределы гроба, вследствие той жажды долговечности, которую можно назвать печатью величия, он желал оставить в будущем своему роду обладание властью”. Простирать свое честолюбие за пределы гроба Кромвель как гений имел, конечно, полное право и основание, но в данном случае он выбрал совсем скверный путь. Он должен был знать, что за человек его старший сын Ричард, который не только протектором, но и хорошим пастухом едва ли мог быть. Но, задумав такое ни с чем не сообразное дело, Кромвель впутал себя в лишние неприятности с парламентом и дал вполне основательный повод к бесчисленным и даже презрительным упрекам. Конечно, он боялся возвращения на престол Стюартов и гибели всего созданного, но какое же препятствие воздвигал он им на пути к трону в лице Ричарда? Ставить на столь ответственное место, не очень умного, хотя и в высокой степени добродушного джентльмена, любившего впоследствии за стаканом хорошего вина посмеиваться над своим “трехдневным” протекторатом и с улыбкой пересматривавшего подписанные им государственные бумаги, значило действовать в состоянии полной слепоты. И здесь-то прозорливость и проникновение изменили Кромвелю как никогда и ни в чем.
Но, спросит читатель, раз Кромвель не хотел ни в чем изменять своему прошлому, то почему же не остался он преданным сыном республики, ее охранителем, почему не примирился он с диктатурой парламента и не оставил власти в руках республиканской партии?
Во-первых, потому, что такой партии не было: двести-триста хотя бы умных людей никакой партии не составляют. Нация была настроена монархически. Диктатура парламента действительно существовала одно время, но почему? По той простой причине, что она опиралась на армию, созданную самим же Кромвелем. Но парламент и армия ужиться не могли и никогда и не уживались. И тот, и другая претендовали на первенство. Парламент только и думал что о роспуске армии, что значило открыть свободный путь Стюартам, а для Кромвеля и его солдат это ничего доброго не предвещало.