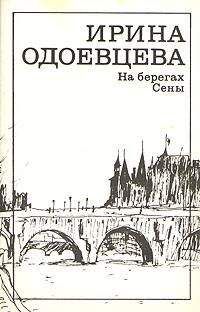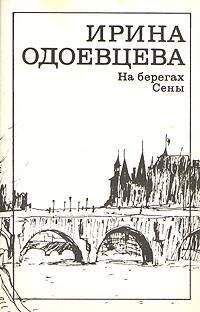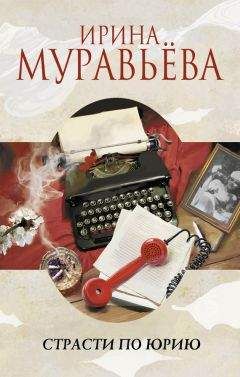Обед удался во всех отношениях — даже в интеллектуальном. Тэффи и Георгий Иванов говорили так умно, так интересно. Многому можно научиться, слушая их. Да. Хозяйка права. Обед действительно прошел удачно. И даже блестяще.
Впрочем, все обеды и завтраки с Тэффи всегда удачны и блестящи.
Одна наша общая с ней знакомая наивно призналась мне, что «за Надеждой Александровной угощеньице никогда не пропадает. Она умеет превратить самый скромный обед в банкет. При ней все вкуснее. И самые скучные, унылые, брюзжащие гости, от которых мухи дохнут, при ней преображаются — становятся веселыми и приятными. Прямая выгода для хозяйки приглашать Надежду Александровну».
Когда я передала Тэффи эти слова о ней, она развела руками:
— Лестно, что и говорить! Чувствую себя «Подарком молодым хозяйкам» — молодым и старым. Своего рода «Молоховцом», да и только!
Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. Казалось, она в событиях, даже самых трагических событиях, как и в людях, даже самых мрачных, видела прежде всего их комическую сторону, скрытую от других. И тут же, не обращая внимания на гробокопательное настроение окружающих, весело сообщала о своих наблюдениях и радовалась, если ей удавалось вызвать ими смех.
— Дать человеку возможность посмеяться, — объясняла она, — не менее важно, чем подать нищему милостыню. Или кусок хлеба. Посмеешься — и голод не так мучает. Кто спит — тот обедает, а по-моему — кто смеется, тот наедается досыта. Или почти досыта.
Она провела годы войны в тяжелых материальных условиях. Но всегда старалась сохранять бодрость и веселье, лишь изредка позволяя себе падать духом.
Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые темные дни. Завидя ее издали, я уже начинала улыбаться — с ней всегда и всюду было приятно и весело.
Большинство наших случайных встреч заканчивались в кафе на набережной. Ведь у нас дел никаких. У меня хоть бридж, у Тэффи и того нет — в бридж она не играет. Ее «светские вылазки» ограничиваются редкими зваными обедами, являвшимися своего рода событиями в те голодные годы.
Сегодня ни бриджа, ни обеда не предвидится. Мы сидим за круглым мраморным столиком и задушевно беседуем. «Задушевно» от «задушить», по ее определению. Тэффи хмурится.
— Как бы мне хотелось задушить, уничтожить, вычеркнуть все эти скучные, пустые дни. Все эти завтра, послезавтра, через неделю, через месяц! До чего они меня изводят. Тянутся, тянутся, и конца им не видно. Сразу бы — прыг! — и перескочить в «после войны», очутиться снова у себя дома, в Париже. Но как подумаешь — страшно отдавать кусок жизни. Ведь неизвестно, сколько лет мне еще осталось жить. Вдруг, после такого прыжка «из царства необходимости в царство свободы», по выражению Бердяева, я окажусь не у себя в Париже, а на кладбище, в могиле. Нет, лучше уж перетерпеть, тем более, что и прыгнуть-то нельзя.
Она глубоко вздыхает и, помолчав немного, протягивает руку, указывая на пылающий над океаном закат.
— Вот, — говорит она, — это все-таки утешение. Каждый день новый, особенный. Я не такая уж страстная поклонница красот природы, не схожу с ума от них. А все-таки и меня пробирает. И еще как! Не могу на закат наглядеться. И так странно — чувствую одновременно страх смерти до дрожи в спине и дикую, бешеную жажду жизни. Жить! Жить полной жизнью. Радоваться жизни. И работать. Но не то, что я обычно пищу, а совсем другое. Замечательное. Оставить после себя след на земле.
Она снова вздыхает.
— Но я прекрасно сознаю, что никакого, даже легкого следа не оставлю. Целиком полечу вверх тормашками в небытие и забвение. Все, что я пишу и писала, — как эти белые однодневные бабочки, которые кружатся около нас, принимая нас по глупости за цветы, должно быть. Я такая же, как и они, однодневка и…
Я перебиваю ее:
— Какой вздор, Надежда Александровна! Кого, кого, а вас-то никогда — или, во всяком случае, очень, очень долго не забудут. Вспомните хотя бы, что говорил Алданов о вас.
Она, насторожившись, сдвигает брови.
— Обо мне? Алданов? Когда?
— У Мережковских. На одном из «воскресений». Помните?
Она качает головой.
— Не помню. У Мережковских?
И вдруг, вся просветлев, улыбается.
— Ах, да! Про анналы и что я Пимен в юбке. Как же, как же! Но ведь это только слова, слова — лесть и вранье. А все-таки — приятно вспомнить. Постойте, постойте, давайте восстановим все по порядку, со всеми подробностями. Она на минутку задумывается.
— Да, вы правы. Это было в воскресенье. Перед Рождеством. Шел дождь, а в дождь и слякоть меня всегда тянет на люди. У Мережковских я давно не была. И подумала: дай-ка пойду к ним — и идти недалеко, и многолюдно. Авось забавно будет. И вышло забавно. Вы ведь помните?
— Да, я помню. Я хорошо помню. Вот как это было.
Парижское дождливое предрождественское воскресенье. Мы сидим за длинным чайным столом на 11-бис Колонель Боннэ. Мы — то есть хозяева, Алданов и все «воскресники», за исключением Адамовича, уехавшего в Ниццу к матери и тетке на праздники.
Алданов здесь довольно редкий гость. Очень почтенный, но не очень любимый. По мнению Гиппиус — «он не интересуется интересным. Он неверующий, атеист. Даже не активный, воинствующий, а пассивный атеист — что уже хуже всего. И слишком насквозь литературный, абстрактный. Конечно, он умен, чрезвычайно умен и тонок, но мне с ним не о чем говорить. И Дмитрию Сергеевичу тоже. Скучно» — и она подавляет зевок в знак того, что ей скучно даже говорить о нем.
Вот и сейчас она посадила его возле себя, с правого лучше слышащего уха, и с полулюбезным, полускучающим видом ведет с ним литературный разговор, расспрашивает о его планах.
Мережковский, что с ним редко случается, не в ударе, и это передается всем «метафизикам», группирующимся вокруг него. Настроение у них кислое. Мережковский вяло и бесцветно обсуждает последнее заседание «Зеленой лампы», не взлетая, как обычно, в надзвездные края, не ныряя в метафизические бездны. Все сегодня как-то не клеится — нет ни ожесточенных споров, ни яростных столкновений мнений. Все не то и не так.
Звонок. И нежданно-негаданно появляется Тэффи. Нарядная, веселая, полная бьющей через край жизнерадостности.
— Что, не ждали меня? — весело и звонко осведомляется она. — Незваный гость хуже татарина, знаю, знаю. А я все-таки взяла и пришла. Принимайте!
И Гиппиус, обрадовавшись, что не надо больше занимать Алданова, «принимает» ее с подчеркнутым удовольствием.
— Вы прекрасно сделали, что навестили нас, Надежда Алек-сандровна. Вы повсюду вносите веселье и свет. А у нас сегодня как раз — sombre dimanche[12].