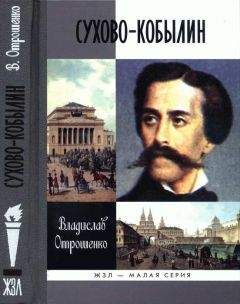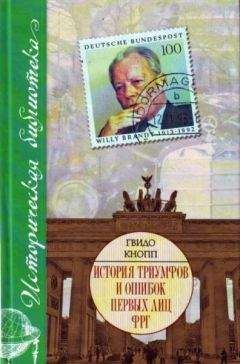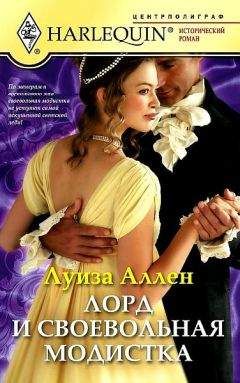Вслед за Егоровым в преступлении сознались Галактион Козмин, Аграфена Кашкина и Пелагея Алексеева. В их показаниях были некоторые расхождения. Галактион утверждал, что Егоров задушил Деманш полотенцем (а не руками) и перерезал ей горло своим (а не его) ножом. «В овраге, — писал он в собственноручном признании, — Егоров снял с шеи ее полотенце, и ему показалось, что Деманш захрипела, тогда он имевшимся у него принадлежащим ему складным ножом перерезал ей горло».
Иначе помнились Галактиону и Пресненская застава, и выезд из Москвы, и кружение по городу с трупом в санях. События этой ночи еще долго являлись ему страшным сном:
— Ночью сделалась сильная метель снега. Выехали мы переулками на Никитскую улицу, чтоб ехать за Пресненскую заставу, я кучером сидел, Ефим ездоком, а рядом другой ездок — она… От страха ошиблись, и вынесло нас к Смоленскому рынку. Мы тогда к будочнику: как проехать к Пресненской заставе? И он нам показал дорогу. Подъехали мы к заставе, а там при шлагбауме двое караульных. Ефим выскочил из саней. Прочь, говорит, с дороги, барыню везем. Тут Ефим и признал одного караульного, Алексея Крестова. Они с ним друзьями были, вместе в карты играли в заведении сапожника Цармана, что [в] Тверской части в доме Захарова, и девок от того же сапожника Цармана брали. «Что, не узнал Ефима Егорова?» А тот ему: «Как не узнать, узнал». — «А помнишь ли ты, сколько должен мне по игре?» — «Помню». — «А девку Татьяну Максимову проиграл?» — «Проиграл, воля твоя». — «Долг я тебе прощаю и девку оставляю, милуйся с ней». — «А чего же возьмешь с меня?» — «Ничего.
Спросят вас — никого не видели. Понял теперя?» — «Так точно». Вот мы тогда и выехали за заставу… А утром в трактире «Сучок», что на Маховой, пили водку и чай. У Ефима была кредитка в пятьдесят рублей. А потом ходили к мещанину Сергею Федорову, у него табачная лавка в доме Захарова. Ефим ему показывал золотые часы, спрашивал, не купит ли. «Откуда у тебя такие?» — «Стало быть, где-нибудь достал». И как часы никто не купил, Ефим завернул их в какое-то любовное письмо камердинера Лукьянова и бросил на чердаке господского дома…
* * *
Вечером 22 ноября пристав Мясницкой части, получив приказ председателя Особой следственной комиссии Шлыкова, открыл двери секретной камеры и, не переступая порога, зачитал из коридора Александру Васильевичу, уже устроившемуся на «казенный ночлег», постановление о его освобождении. В тот же вечер пристав письменно доложил следственной комиссии, что «отставной титулярный советник Сухово-Кобылин из-под стражи освобожден и о невыезде из Москвы обязан подпиской».
— Сударь, извольте дать подписочку о невыезде из города.
— К чему же подписку; что за подписка, я и так из города никуда не поеду.
— Так уж форма.
— Я вам говорю, что не поеду, так вы можете верить. Кажется, между благородными людьми и благородного слова довольно.
— Нельзя-с.
— Однако, черт возьми, когда я говорю, так довольно!..
— Ей, Качала!..
— Что это?.. Стойте!.. Опять в темную?!
— Да-с. Мы уж попросим опять. Несите в темную.
— Ну так я подписку, — я лучше подписку — стойте!., окаянные! Я даю подписку!! Две подписки!!
— Качала!.. Назад!..
— Я с удовольствием — я с большим, черт возьми, удовольствием… вам подписку дам… я хоть три подписки дам.
«Смерть Тарелкина», действие третье, явление IXТак он смеялся над собой, изображая помещика Чванкина.
О его освобождении никто из родных еще не знал, карету за ним не прислали, извозчика он нанимать не стал. В сумерках, покачиваясь от нервной усталости, опьяненный свежим морозным воздухом этого «переломного трагического ноября» своей жизни, он шел пешком на Страстной бульвар. Он смотрел на длинные тени, скользящие по атласным шторам в светящихся окнах дворянских домов, рассеянно слушал тоненькие, глухо повизгивающие звуки бальных мелодий, похожие отсюда, с улицы, на грустно-усердное стрекотание шарманки, и старался не думать ни о прошлом, ни о будущем: «…в сущности, что такое наши расчеты на будущее — почти всегда занятие совершенно бесполезное». Он вынес из своего первого тюремного заключения зерна того желчного спокойствия, того презрительного равнодушия к миру, которое потом позволит ему годами уединенно трудиться над философскими трактатами и сочинять в Кобылинке грандиозную в своей бессмысленности «Формулу Всемира»:
-0 : 1 = 1 : ∞
Да еще восклицать при этом с торжествующим отчаянием: «Вот свет истины!»
Нет, тогда он конечно же был еще далек от этой злой старческой насмешки над миром, от этой надменной прихоти ума — взять и вместить все свои знания о жизни в бесполезную формулу и любоваться ею, находя великие истины в недоказуемом равенстве абсурдных величин. В тот ноябрьский день, всматриваясь в себя, он открывал другие истины: «…действительные чувства не подчиняются четырем правилам арифметики, одно чувство стоит больше, чем три или четыре… я дорого заплатил за эту маленькую и простую истину». И этим одним действительным и мучительным чувством была Луиза: «Святая и тихая жизнь сердца, не ценил я тебя тогда, когда ты проникала всё мое существо, а теперь, когда вокруг меня страшно пусто, знаю я твою цену…» За это горькое и запоздалое знание ему еще предстояло платить своей честью и свободой долгих семь лет…
* * *
В XV томе Свода законов Российской империи была 1150-я статья, гласившая: «Собственное признание подсудимых несомненно составляет полное и совершенное доказательство — и не требует никаких дальнейших переследований».
Но была в том же томе другая статья, 1181-я, в которой говорилось: «Признание подсудимого почитается доказательством совершенным, когда оно вполне сходно с происшедшим событием и когда показаны при том такие обстоятельства действия, по которым о достоверности оного сомневаться невозможно».
Эта статья давала широкий простор для сомнения, и министр юстиции с военным генерал-губернатором Москвы засомневались. А вслед за ними засомневались сенаторы, следователи, обер-прокуроры. И дело, изголодавшееся за несколько недель ввиду замешательства обслуживающего персонала, вновь получило солидную подкормку и стало стремительно прибавлять в весе. По выслушивании его в шестом департаменте Правительствующего сената «одна особа», как говорится в протоколе, — а именно обер-прокурор Лебедев, — «высказала мнение»:
— Возможно ли принять за справедливое, чтобы девки занялись столь тщательным убранством уби-той, в каком она была найдена в поле, убранством, требовавшим много времени, тогда как убийство совершено перед рассветом, мало этого, они в уши вдели серьги, а на руки кольца, супиры, перстни, брошку и булавку, и всё это для того, как показал Егоров, чтобы полагали, что Деманш убита и ограб-лена извозчиком; как же это сообразить, заставить думать, что ограбил извозчик, и надевать на мертвую вещи, тогда как для внушения этой мысли требовалось оные снять, если бы до убийства на ней и находились.