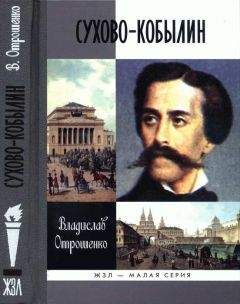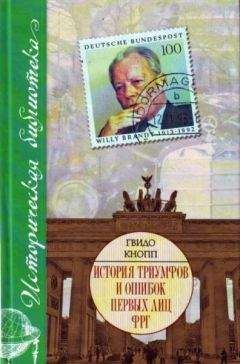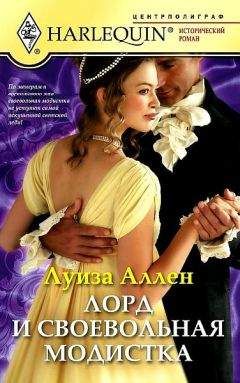Особая комиссия, ободренная новым поворотом дела, действовала с удвоенной силой, и уже через несколько месяцев после признания дворовых людей материалы, собранные следователями, позволили министру юстиции сделать в Сенате громовое заявление:
— Убийство Деманш, произведенное с жестокостью, не могло быть совершено без сильной к тому побудительной причины. Следствием не обнаружено, однако же, причины, по которой дворовые люди Сухово-Кобылина могли бы сами по себе посягнуть на столь тяжкое злодеяние.
Показания, подтверждающие такой вывод, грозящий Александру Васильевичу арестом и каторгой, давал, как ни странно, он сам. На допросе 18 марта, уже после того как в деле появились собственноручные признания дворовых, он настойчиво утверждал:
— Отношение Деманш к прислуге было в глазах моих до такой степени удовлетворительным, что сам я, подвергнутый жестокому подозрению в убийстве, готов перед комиссией отдать и имущество, и жизнь, чтоб рассеять окруживший меня мрак неизвестности: и в самую минуту тяжкого для чести моей ареста не находил и сейчас решительно не нахожу причин подозревать людей сих в совершении преступления.
Да, но как же быть с показаниями дворовых об убийстве Луизы Ивановны из мести — за то, что беспрестанно их избивала? Как быть с многочисленными показаниями прислуги о «строптивом характере» француженки? И наконец, как быть с имеющимся в деле официальным документом — жалобой Настасьи Никифоровой на имя военного генерал-губернатора Москвы? Все эти факты как причину, «по которой дворовые люди могли бы сами по себе посягнуть», Панин легко перечеркивал, ссылаясь на какие-то мифические материалы дела в целом и показания Сухово-Кобылина от 18 марта в частности. При этом никому не приходило в голову сопоставить эти показания «с происшедшим событием» и усомниться «в достоверности оного». Что же касается самого Александра Васильевича, трудно сказать, осознавал ли он, что подставлял свою голову, когда с такой решительностью и убежденностью отвергал мотив убийства из мести и даже саму возможность убийства Деманш ее слугами. Это было то самое джентльменство, которое потому так и называется, что проявляется независимо от обстоятельств. Он не мог публично обвинить или же, что равносильно, молчаливо согласиться с публичным обвинением своей подруги в жестокости — даже мертвой подруги, которая уже ни в чем не могла упрекнуть своего «любезного Александра». Он не мог этого сделать еще и потому, что именно он научил Луизу «обращению» с крепостными, варварски избивая их на глазах у французской модистки.
— Деманш на меня раза два жаловалась Кобылину, — показывала Пелагея Алексеева, — за то, что будто бы я без приказания ее истратила сливки, тогда как она сама оные истратить велела. За что барин бил меня так, что я без памяти была.
Лютым помещиком он оставался до конца своих дней.
— К крестьянам относился жестоко, — вспоминали бывшие крепостные его тульской вотчины. — Шапку не снимет кто — изругает. За любую провинность — под суд.
— На господскую землю нам, мужикам, заходить было нельзя — засечет! Крутой был человек!
— Когда чем расстроен бывал — шляпу набок. А в хорошем настроении — шляпа как следует надета. Уж я заметила. Как шляпа набок — на глаза ему не попадаюсь.
Они были безответными и безропотными, тысячи его верноподданных душ. И рабски любили его. Мало говорили о нем плохого. Всё больше восхищались. Потому что:
— Трудовик был! Работал по столярному делу. С утра, бывало, с топором, где сучок обрубит, где что. На строительстве землю сам возил тачкой.
И потому что:
— Милостивый был, что попросишь, даст.
Он был для них легендой, этот богатый барин, «высшей марки аристократ», ходивший по лесам с топором за поясом и предававшийся аскетизму среди патриархальной роскоши родового имения.
— С детства я в кухарках, — рассказывала Наталья Ларионовна Богачкина. — В барском доме стирала, работала, что укажут. Всё делала. Спаленка у него была шикарная, а рядом — верстак, на верстаке брусочки. На верстаке и спал. Никому об этом нельзя было говорить. Меня допускали убирать кабинет, потому что не болтливая была. Раз вхожу в кабинет (а мне сказали, что самого дома нет, убирать можно), а он стоит во весь рост. Я обратно: «Батюшки, он сам там!» А мне экономка: «Дурочка, это его портрет». И правда, портрет был во весь рост, как живой нарисован. Раз застал меня в кабинете, убирала, как закричит сердито (с привизгом говорил): «Чья такая?! Откуда ты?» — «Я Богачкина». — «А-а-а-а, Богачкина! Отец твой мой самый любимый кучер». И сразу добрым стал… Бедным он помогал. Леску, хлеба давал. А воров не любил. Если поймает — в тюрьму.
Видел, как дрожали они под его суровым взглядом. И гордился этим. И держал их в страхе, неустрашимый властитель, в иной час добрый, в иной час яростный, могучий барин, отец родной. Но однажды не смог он всё же скрыть своего страха перед ними, безответными и трепещущими, дрогнул сердцем, съежился, побледнел. Это было в день его именин, в праздник святого Александра Невского.
— В этот день, — вспоминал крестьянин Филипп Иванович Кузнецов, — приезжали, бывало, многие гости. Крестьян богато одарял орехами, конфетами. Резал быка, пек пироги. Собирались на праздник из всех деревень в округе. Развешивал в этот день фамильные вензеля, устраивал фейерверки, люминации. Все крестьяне собирались к дому, где устраивалось большое угощение, выкатывалась бочка вина, расставлялись столы с закусками… И вот однажды происходило такое праздничное гулянье. А в этот день как раз вернулись из солдатской службы крестьяне Городецкий и Сачков. Они подняли барина на руки и начали качать. А он испугался, думал, что хотят его убить. С тех пор именины и не праздновал больше…
«Хотят его убить»… этот мучительный, безрассудный страх жил в нем подспудно с той самой поры, когда ему дали прочесть по-крестьянски спокойное и обстоятельное и оттого еще более впечатляющее повествование Ефима Егорова. Тогда на него, не знавшего страха ни перед чем, впервые дохнуло тем древним и хорошо знакомым его родовитым пращурам неистребимым ужасом перед вилами, топором и красным петухом. Крестьяне его замечали и говорили об этой «болезненной причуде» с каким-то горестным снисхождением, почти с обидой.
— Он даже воду сначала возил издалека, — рассказывал Филипп Семенович Маслов. — Потом взял из Плавицы, послал на анализ в Москву. Там сказали, что самая лучшая. Тогда он оцементировал источник недалеко от мельницы и воду стал брать только оттуда. Проверял всё очень. Боялся, что его отравят.
* * *
Особые мнения сенаторов, выводы министра юстиции и заключение медицинской конторы вновь возвращали делу утраченную было обоюдоострость. Оплошность частного пристава Стерлигова стараниями целой армии чиновников была исправлена.