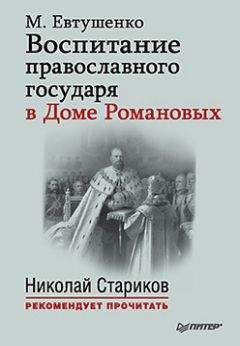А ученицы «великого», прежде меня проклинавшие за удар, нанесенный Мише, попеременно мне признавались:
— «Вы — увы! — были правы».
Лишь Батюшков еще «верил» «карге»; но в двадцатом году даже эта «божья коровка» воскликнула:
— «Предпочитаю… Тэк!.. Мишу не видеть!.. Тэк!..» И опустила нос.
«И ты, Брут!» — мог воскликнуть Эртель.
Вскоре он умер.
Весьма неприятно оперировать опухоли: гной, пальцы мажутся, грязно; а — надо; в 1910 году я срезал опухоль, назревавшую в круге нас обстававших перезрелых дев, возвращая старой Москве невинно привирающего добряка; «великий лжец», «жрец» — был выставлен, как спиртовой препарат: в музее типов139.
Встреча с Эртелем — класс изучения шарлатанизма.
Сколько раз шарлатаны встречались потом; я сталкивался с рядом еще не изученных в психике явлений; при них вырастали люди, объявившие неизученные явления яеизучаемыми, но бравшие патенты на их объясненья; тип шарлатана цвел многообразием разновидностей отъявленного до… невинного; на Эртеле я развил особое обоняние, позволявшее потом мне унюхивать шарлатана. Подлец, спекулирующий на доверии, — безобидный «зверь» в фауне шарлатанства; слабые, часто чуткие, часто добрые люди — порою рассадники более опасных бацилл: шарлатан в них даже неуловим. Эртель — тип без вины виноватого шарлатана; в Эртеле виноваты все: я, старушка Софья Андреевна, старик Танеев.
От грубого Калиостро не стоит спасать: опасности Калиостро ничтожны в сравнении с той, которую представлял Миша, «ученый-историк».
Вспомните роман «Давид Копперфильд»: Тротвуд, юноша;140 и — Стирфорс, блеск талантов, старший товарищ Тротвуда; история друзей — себя повторяющий миф; у каждого бывает свой Стирфорс, свой блеск; жизнь отнимает Стирфорса; но сон о нем длится.
Он — кипение юных сил в нас; он — нас отражающее зеркало.
Встреча с Метнером — встреча юноши с сильно вооруженным мужем, поражающим воображение; я, Эллис, Петровский имели возможность обобществить наши опыты: борьбы с бытом; связь «аргонавтов» — попытка утилизировать опыт каждого как ценный и независимый; для изучения науки надо было Эллису записаться на семинарий по Марксу; мне — записаться на класс литературоведения Брюсова, на коллоквиум по истории церкви — к Рачинскому; но ни у Брюсова, ни у Рачинского не учился я связывать интересы: в культуру; в кружок «аргонавтов» шли: увязать в культуру знания каждого; не мои стихи интересовали меня, а социологический опыт Эллиса, исторический — Эртеля, теоретико-познавательный — Шпета, уже поздней временно подходившего к нам.
Метнер был старше на несколько лет в эпоху, когда «на год ранее» — значило: на метр глубже в трясине рутины; десятилетие боролись с нами; а с футуристами — года полтора.
Брюсову было труднее, чем нам; с 93 года оскалился он; на его же плечах мы с Блоком проходили в литературу.
Метнер был в возрасте Брюсова; жил же он в полной закупорке; сфера Брюсова — уже; музыка не интересовала его; он не был мыслителем; в Метнере же схватились: мыслитель и композитор тем, которые прозвучали в культуре Запада запоздалым откликом на думы его юности, — у Шпенглера, у Чемберлена, у Файгингера и у Вейнингера; они — шире, богаче, свободней жили в душе молодого Метнера, как подгляди лишь.
Не было литературы предмета: не было в литературе «предмета»; «предмет» — культура мысли вместо истории философии; не было постановки проблемы музыки как смысловых волнений сознания; читали историю в архиве документов; не было представления о палеонтологической психологии, — о том, что ископаемый птеродактиль в ребенке, пробегающем ракурс всех исторических и доисторических фаз, жив в кошмаре о драконе, миф о котором — итог опыта передачи памяти о встречах первых людей с последними птеродактилями141.
Все это поднимал Метнер из своей катакомбы. С необычайною яркостью — без литературы, без отклика.
Более богатый культурой, чем Брюсов, он был замурован без единой отдушины; никто не слушал; не умел сказать; не было и трудов, на которые он мог бы сослаться. Ницше и Гобино еще не были в России известны; и он хватался… за Константина Леонтьева, за Аполлона Григорьева, ломая в себе труд «Философия культуры»; напиши он его, — многие бы твердили: «Это — по Метнеру»; мы же часто твердим: «Это — по Шпенглеру»; но труд, не написанный им, в сознаньи моем перевертывал свои страницы142, играя яркою краской; две им написанные книги — «Музыка и модернизм» и «Размышления о Гете»143 — бледные перепевы им уже сказанного.
По Эртелю знаю: и «ничто» может казаться «всем»; по Метнеру знаю: и яркий талант мимикрирует подчас неудачника; иные таланты с легкостью выражают себя; потенциям гения присуще рубище нищего; в Метнере жило — нечто от «гения»; но «гений» в нем — обрел рубище.
Как луч из окошка, погас за окошком.
С Метнером познакомил Петровский: в 901 году.
— «Что там! — отмахивался он, — поговорите с Эмилем Карловичем: вы с своим Шопенгауэром, а он — по Канту».
Метнер да Метнер!
Я досадовал; мои мнения угонялись крокетным шаром: от шара Метнера; подать Метнера!
Петровский, выпятив губы, силясь выговорить, торопясь, — вспыхивал:
— «Эмилий Карлович слышит в оркестре каждую фальшивую ноту; братья Метнеры кидаются друг на друга по окончании симфонии и, не сговариваясь, восклицают: „Две, Коля, ошибки!“ — „Две, Миля, ошибки!“ — „Ужасно!“ — „Чудовищно!“ Где нам с вами: куда уж!»
И, убив меня, облизываясь, как кот, Петровский прибавлял:
— «У Эмилия Карловича брат, Николай, — сочиняет: замечательный пианист и композитор; он — произведение рук Эмилия Карловича».
Петровский, бывало, кого-нибудь возведя в перл, — им гвоздит: где уж, куда уж, — не Метнеры мы!
Выяснилось: Метнер — западник, немец с испанскою кровью; отец его — имел дело;144 а прадед, артист, был знаком с Гете145, которого Метнер боготворил, состоя в «Goethe-Gesellschaft» и заполняя библиотеку трудами «Goethe-Gesellschaft»;146 еще гимназистом Петровский заходил к Метнерам.
Раз шли с ним арбатским районом; вырос стройный, эластичный мужчина в карей широкополой шляпе, в зеленовато-сером пальто; бросились: узкая клинушком каштановая борода и лайково-красная перчатка, подымавшая палку, когда он остановился как вкопанный, точно внюхиваясь расширенными ноздрями тонкого носа и поражая загаром худого, дышавшего задором и упорством лица.
Вдруг лицо взорвалось блеском больших зубов с волчиным оскалом и вспыхом зеленых глаз, пронизавших насквозь, когда он, сорвав шляпу, ее уронил к тротуару, отвешивая четкий поклон и косясь исподлобья; длинные, жидкие, но кудрявые пряди волос с ранней лысины трепанул ветер; я увидел надутые височные жилы и линии костей черепа, сросшиеся буграми.