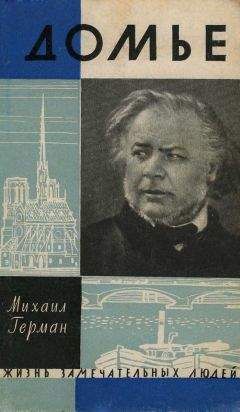Почти никто из современников Домье не изображал рабочих. Жанрон если и писал их, то с сочувственной жалостью. Домье же ими любовался. И в тюрьме, и за работой, и в апрельские дни они сохраняли спокойную уверенность. Когда надо было — стреляли, после поражения — не впадали в отчаяние. Снова брались за работу, ожидая своего часа. Трескучих речей не произносили, только говорили: «Дело пойдет на лад!», вспоминая «Карманьолу», и заботливо смазывали старые ружья, спрятанные на чердаках.
После резни на Транснонен, массовых арестов герои Домье оказались в тюрьмах; им грозила ссылка, галеры, железные ошейники каторжников. Но, как и в жизни, в рисунках Оноре они не падали духом.
Генеральный прокурор Персиль стоит над прикованным к стене узником. Но тот не смотрит на прокурора, перед его глазами скользит видение: фигурка Свободы, неуклонно летящая вперед. Домье назвал литографию «Современный Галилей», намекая на знаменитые слова ученого: «А все-таки она вертится!», сказанные в суде инквизиции.
А другой уже окончил свою борьбу. В тюремной камере, куда едва проникает свет, на узкой деревянной койке лежит рабочий. Он умирает от ран, полученных в дни апрельских боев. Худая тяжелая рука, перехваченная кольцом с цепью, касается сырого каменного пола. Лицо тронуто смертью. Врач, в котором без труда можно узнать Луи Филиппа, говорит прокурору, щупая пульс умирающего: «Этого можно отпустить на свободу — он больше не опасен».
Фарс был окончен. Даже правосудие не пыталось больше играть в беспристрастие.
5 мая 1835 года начался суд над участниками восстания, «Процесс-чудовище». Обвиняемым было отказано даже в праве выбора защитников. Палата по собственному произволу назначила адвокатов. Обычные юридические нормы не соблюдались. Парижане вспоминали о судьбе маршала Нея, расстрелянного после «Ста дней» без суда и следствия.
Вскоре Домье опубликовал литографию: призрак маршала Нея пишет на воротах суда: «Суд убийц».
С этого дня Домье бывал почти на всех заседаниях суда. Процесс проходил в специально выстроенном зале Люксембургского дворца при огромном стечении народа.
На втором заседании потребовал слова Годфруа Кавеньяк — один из обвиняемых, член «Комитета защиты», избранного подсудимыми. От имени «всех обвиняемых Парижа» он настаивал на праве свободного выбора адвокатов. Его силой заставили замолчать. Все присутствующие были возмущены. Зал бушевал. Заседание пришлось прервать на четыре с лишним часа. Помещение окружили несколько батальонов солдат. Процесс становился опасным для правительства. Обвиняемые сами превращались в обвинителей. Подсудимых под любым предлогом лишали слова, журналистов и публику выгоняли из зала.
Через неделю Домье сделал еще одну литографию.
Она изображала заседание суда. На кафедре судья — с засученными, как у палача, рукавами, но с приторной улыбкой — обращался к обвиняемому; «Вы имеете слово, объяснитесь, вы свободны!»
Обвиняемый стоял с завязанным ртом. За руки, за плечи, за волосы его держали похожие на мясников судейские. На полу валялись обрывки защитительной речи. Поблизости палач готовился отрубить голову другому подсудимому. А сзади, на скамьях амфитеатра, сидели пэры, такие же сонные, ленивые и тупые, как министры в «Законодательном чреве».
Лица судей были непередаваемо гнусны, в их глазах светилась радость хищников, почуявших запах свежей крови. И вместе с тем было в этих фигурах торжество убийц, защищенных всесильным законом.
Домье недаром занимался живописью. Он стал гораздо свободнее обращаться со светом. Свет не дробился больше, он широко заливал весь рисунок. В черно-белой литографии чувствовался цвет: в полированной кафедре угадывалась желтизна дерева, в одеждах судейских — черные глухие тона, их лица словно были налиты темной кровью.
Домье научился передавать общее движение групп, находить жесты, точно выражающие чувства людей. Сколько несравненного лицемерия было в движении рук судьи! Их одних было достаточно, чтобы раскрыть смысл литографии.
Оноре Домье становился мастером.
Это приходило постепенно, вместе с годами напряженного труда — ведь он уже сделал сто с лишним больших литографий; вместе с ясным сознанием того, во имя чего и для кого он работает. Порою он не замечал карандаша в пальцах — казалось, рождающиеся в голове образы сами возникают на рисунке. Он научился достигать законченности оборванным штрихом, понял, что в искусстве намек значит куда больше, чем обстоятельное копирование. В работах Домье уже не было ничего ученического.
Он рисовал портреты судей, как год назад депутатов: Барбе Морбуа — в ночных туфлях с отвисшей нижней губой, совершенно одряхлевшего, выжившего из ума старика. Генерала Матье Дюма — с зеленым козырьком над глазами, он макает бисквит в стакан бордо, забыв обо всем на свете.
Но как ни смешна была правящая верхушка Франции на литографиях Домье, она по-прежнему оставалась опасным и сильным противником.
В августе стало известно о новых законах против прессы. Они подготовлялись давно. С июльской революции до осени 1835 года состоялось больше пятисот процессов по делам печати. Теперь были приняты так называемые Сентябрьские законы. В них было сказано:
«Никакие рисунки, гравюры, литографии, медали, эмблемы, эстампы, какого бы рода они ни были, не могут быть опубликованы, выставлены и проданы без предварительного разрешения министерства внутренних дел в Париже и префектов в департаментах. При нарушении этого закона рисунки, гравюры, литографии, медали, эстампы или эмблемы будут конфискованы, а их издатель будет приговорен Исправительным трибуналом к тюремному заключению сроком до года и штрафу в размере до тысячи франков».
Так закончился последний акт фарса о свободе.
Демократическая печать окончательно лишалась всех прав. «Карикатюр» должна была прекратить свое существование — она не могла б выдержать и десятой доли штрафов, которые неминуемо посыпались бы на нее.
Редакция закрылась.
Уходил в прошлое большой кусок жизни, все то, что было связано с работой в «Карикатюр»: четыре года борьбы и творчества. Домье пришел сюда учеником, уходил зрелым художником и испытанным бойцом. Он знал, что не сойдет с однажды выбранного пути. Будут другие журналы, новая борьба, друзья и споры, живопись, жизнь.
Единственно, что уже не могло возвратиться — это годы юности.
Но, выходя из галереи Веро-Дода и вспоминая людей, что, смеясь и негодуя, стояли здесь, перед его рисунками, Оноре Домье подумал, что, пожалуй, юность его прошла не напрасно.