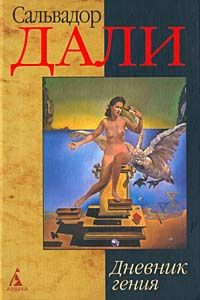Глаза юноши, слушавшего меня, округлились, как у рыбы. "Что еще вы хотите узнать?" — спросил я.
"Ваши усы. Они не стали длиннее по сравнению с первым днем, когда я видел вас?"
"Длина их постоянно колеблется, они не бывают одинаковыми даже два дня подряд. Сейчас они не совсем в порядке, так как у меня не было времени ими заняться из-за вашего прихода. Я еще не начинал работать. Мне еще нужно по-настоящему проснуться".
Поразмыслив, я подумал, что эти слова слишком банальны для Дали, что вызвало во мне чувство неудовлетворенности, которое подтолкнуло меня к уникальному изобретению, я сказал: "Подождите".
И вышел, чтобы приклеить к кончикам усов два волокнистых овощных отростка. У этих отростков странное свойство скручиваться и раскручиваться. Вернувшись, я продемонстрировал свое изобретение гостю: я изобрел усы-радары.
12 мая
Критика — занятие высшего порядка. Оно достойно только гениев. Только я могу написать памфлет о критике, ибо я изобрел параноико-критический метод. И я написал его.[31] Но и в нем, как в этом дневнике моей "Тайной жизни", я сказал далеко не все и оставил в резерве часть взрывоопасных гранатов, а если бы меня, к примеру, спросили, кто самая посредственная личность из известных мне людей, я бы ответил: это Кристиан Зервос. Если бы мне сказали, что все цвета Матисса дополнительные, я бы подтвердил, что это правда, что все они вполне соотносятся. И затем я сказал бы, что неплохо бы обратить внимание на абстрактное искусство. Поскольку его денежная ценность тоже очень скоро приблизится к абстрактной. Существует определенная градация в печальных ликах нонфигуративного искусства: во-первых, собственно абстрактное искусство, облик которого ужасающ во-вторых, это художник-абстракционист, что, может быть, еще печальнее; затем печаль перерастает в беду, когда лицом к лицу сталкиваешься с поклонником абстрактного искусства; но самый зловещий вариант — это критики абстрактной живописи, так называемый эксперт. Порою происходит нечто чудовищное: все критики единодушно считают, что то или иное "произведение" очень хорошо либо очень плохо. В такой ситуации можно быть уверенным, что все они лгут. И нужно быть величайшим болваном, чтобы настаивать на том, что если волосы седеют, то, совершенно естественно, бумага тоже должна желтеть.
Я назвал свой памфлет "Рогоносцы современного искусства", но я не сказал, что самые великолепные из всех рогоносцев — рогоносцы-дадаисты. Постаревшие, поседевшие, но все еще крайне нонконформисты, они страстно любят получать золотые медали на каком-нибудь очередном биеннале за произведения, созданные с единственным желанием шокировать публику. Есть еще рогоносцы, менее великолепные — если это возможно,- чем эти старики: рогоносцы, вручающие награду Кальдеру. А Кальдер — это даже и не дадаист, и хотя все так думают, никто не отваживается сказать, что его "произведения" вообще никто не купит. Никогда не купит.
13 мая
Из Нью-Йорка приехал журналист, чтобы узнать, что я думаю о Моне Лизе Леонардо. Я сказал ему следующее.
"Я — большой поклонник Марселя Дюшана, ему удалось придумать знаменитую трансформацию лица Джоконды. Он пририсовал ей короткие усики — усики по сути далиниевские. Под репродукцией он очень мелкими, едва читаемыми буквами сделал надпись: "Q.H.O.O".. — "У нее жар в заднице".
Что касается меня, то я всегда восхищался смелостью Дюшана, который в то время задавался куда более важными вопросами, например: нужно ли сжечь Лувр или нет? Тогда я был уже горячим поклонником ультраконсервативной живописи великого Мейссонье, которого я всегда считал художником более высокого класса, чем Сезанн. Разумеется, я был одним из тех, кто сказал, что Лувр сжигать нельзя. До сих пор я думаю, что моя точка зрения была принята во внимание: Лувр не сожгли. Но если бы вдруг приняли решение его сжечь, то "Джоконду" следовало бы спасти, даже, может быть, отправить ее с соответствующей охраной в Америку.[32] И не только потому, что она с любой точки зрения очень хрупка. Джокондофилия распространилась по всему свету. Многие нападали на "Джоконду", несколько лет назад в нее даже бросили камень — совершенный пример чудовищной агрессии по отношению к собственной матери. Зная концепцию Фрейда относительно Леонардо да Винчи, все подсознательное, что скрывало его искусство, легко сделать вывод, что, когда он писал "Джоконду", он был влюблен в свою мать. Сам того не зная, он писал ту женщину, что обладала всеми чертами его матери. У нее был большой бюст, и тем, кто мог их сравнить, она очень напоминала образ матери Леонардо. В то же время у нее двусмысленная улыбка. Так что эдипов комплекс, который обуревает какого-нибудь несчастного, заключается во влюбленности в собственную мать. Такой бедолага отправляется в музей. Музей — дом, открытый для публики. В подсознании одержимого это публичный дом. И в этом публичном доме он встречает прототипы множества матерей. Мучительное присутствие образа матери, обращающей к нему нежный взор и двусмысленную улыбку, и толкает его на криминальный акт. Он совершает убийство матери, схватив первое, что попалось под руку, — камень, и разрушает картину. Это типичный пример агрессивного параноика…"
Уезжая, журналист сказал мне: "Одно это стоило того, чтобы приехать сюда"
Думаю, что действительно стоило Я наблюдал за ним, видя, как в глубоком раздумье морщился его лоб, как, когда мы прогуливались, он пытался подобрать какой-то камень.
2 сентября
Я получил телеграмму от принцессы П., сообщавшей мне о своем приезде. Я полагал, что она привезет "китайскую мастурбирующую скрипку", которую ее муж, принц, обещал привезти мне в подарок из последней поездки в Китай. После обеда под ласковым небом я грезил о китайской скрипке, снабженной вибрирующим придатком. Механизм придатка устроен так, что его можно вложить в задний проход или во влагалище. Когда он уже на месте, музыкант начинает водить смычком по струнам скрипки, естественно, ничего не играя, но следуя нотной записи только в целях мастурбации. Затем извлекая звук легкими ударами смычка, вызывающими движение вибратора, сообщающегося с придатком, музыкант испытывает оргазм именно в тот момент, когда наступает музыкальная кульминация.
Предаваясь эротическим грезам, я краем уха слышал беседу трех барселонцев, которые рассуждали о проблемах Вселенной. Один из них рассказывал историю о звезде, которая существовала около миллиона лет, и свет ее был виден до сих пор и т.д., и т.п.
Я не разделял их ленивого изумления и сказал, что ничто, происходящее во Вселенной, не удивляет меня. И это абсолютная правда. Один из этой тройки, очень известный часовой мастер, говорит мне, не желая продолжать спор: