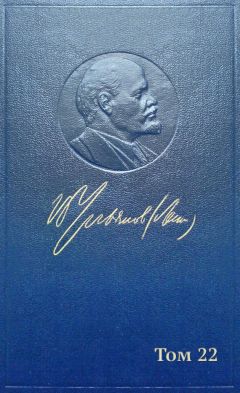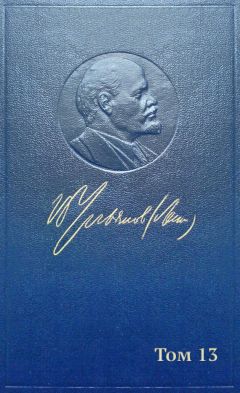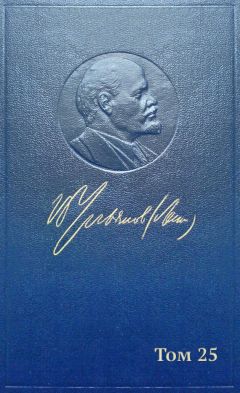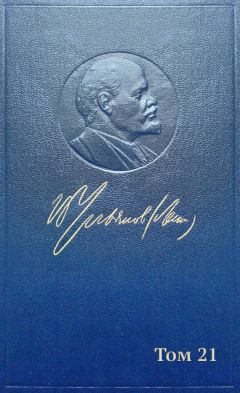Именно 1905 год этой «бестолковщине» положил раз навсегда конец. В истории России не бывало еще эпохи, которая бы с такой исчерпывающей ясностью, не словами, а делами, распутывала запутанные вековым застоем и вековыми пережитками крепостничества отношения. Не бывало эпохи, когда бы так отчетливо и «толково» размежевывались классы, определяли себя массы населения, проверялись теории и программы «интеллигентов» действиями миллионов.
Каким же образом бесспорные исторические факты могли получить столь извращенный вид в голове образованного и либерального писателя из «Русской Мысли»? Дело объясняется очень просто: этот веховец навязывает всему народу свои субъективные настроения. Он лично и вся его группа – либерально-буржуазная интеллигенция – оказались в это время в положении особенно «бестолковом», «сплошь запутанном». И свое недовольство, естественно явившееся от этой бестолковщины и от разоблачения массами всей дрянности либерализма, либерал переносит на массы, валя с больной головы на здоровую.
Разве не бестолково, в самом деле, было положение либералов в июне 1905 года? или после 6-го августа, когда они звали в булыгинскую Думу, а народ шел на деле мимо Думы и дальше Думы? или в октябре 1905 года, когда либералам пришлось «бежать петушком» и объявлять забастовку «славною», хотя они вчера еще с ней боролись? или в ноябре 1905 года, когда все жалкое бессилие либерализма выплыло наружу, будучи демонстрируемо столь ярким фактом, как визит Струве у Витте?
Если веховец Щепетев пожелает прочесть книжонку веховца Изгоева о Столыпине, то он увидит, как Изгоеву пришлось признать эту «бестолковщину» в положении кадетов «меж двух огней» в I и во II Государственной думе{62}. И возникали эта «бестолковщина» и бессилие либерализма неизбежно, ибо не было у него массовой опоры ни в буржуазии вверху, ни в крестьянстве внизу.
Рассуждения г. Щепетева об истории революции в России оканчиваются следующим перлом:
«Впрочем, вся эта путаница продолжалась очень недолго. Верхи мало-помалу освободились от овладевшего ими почти панического страха и, придя к тому несложному выводу, что добрая рота солдат действительней всей революционной словесности вместе взятой, снарядили «карательные экспедиции» и привели в действие скорострельную юстицию. Результаты превзошли всякие ожидания. В какие-нибудь два-три года революция до такой степени была уничтожена и вытравлена, что некоторые учреждения охранного характера принуждены были местами ее инсценировать…»
Если предыдущие рассуждения автора мы могли снабжать хотя некоторыми теоретическими комментариями, то теперь у нас нет и этой возможности. Мы должны ограничиться тем, чтобы прибить эти достославные рассуждения покрепче к столбу повыше, чтобы их дольше и дальше видеть можно было…
Впрочем, мы можем еще спросить читателя: удивительно ли, что октябристский «Голос Москвы» вместе с националистическим иудушкиным «Новым Временем» цитировали Щепетева, захлебываясь от восторга? Чем отличается, в самом деле, «историческая» оценка «конституционно-демократического» журнала от оценки названных двух изданий?
Больше всего места занимают у г. Щепетева очерки эмигрантского быта. Чтобы найти аналогию этим очеркам, следовало бы откопать «Русский Вестник»{63} времен Каткова и взять оттуда романы с описанием благородных предводителей дворянства, благодушных и довольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-революционеров.
Г-н Щепетев наблюдал (если наблюдал) Париж глазами озлобленного на демократию обывателя, который в первом появлении на Руси массовой демократической книжки сумел усмотреть одно только «беспокойство».
Известно, что каждый видит за границей то, что он хочет видеть. Или иначе: каждый видит в новой обстановке самого себя. Черносотенец видит за границей отменных помещиков, генералов и дипломатов. Охранник видит там благороднейших полицейских. Либеральный российский ренегат видит в Париже благонамеренных консьержек и «деловых»[22] лавочников, обучающих русского революционера тому, что у них «гуманитарные и альтруистические чувства слишком уже подавляли запросы личности и часто в ущерб общему прогрессу и культурному развитию всей нашей страны»[23].
Лакей душой, естественно, интересуется всего больше царящей в лакейских сплетней и скандальчиком. Идейных вопросов, разбираемых на парижских рефератах и в парижской печати на русском языке, лавочник и консьерж-лакей, разумеется, не замечает. Где ему видеть, что в этой печати поставлены, например, еще в 1908 году, те самые вопросы о социальной сущности 3-июньского режима, о классовых корнях новых течений в демократизме и т. п.[24], которые много позже, уже, извращеннее нашли себе дорожку (в урезанном виде) в печать, «охраняемую» усиленной охраной?
Лавочник и лакей, в какие бы «интеллигентские» костюмы ни рядились имеющие такую душу люди, не в состоянии заметить и понять этих вопросов. Если этот лакей называется «публицистом» либерального журнала, то этот «публицист» обойдет полным молчанием великие идейные вопросы, нигде, кроме Парижа, открыто и ясно не поставленные. Но зато такой «публицист» подробно расскажет вам то, что отлично знают в лакейских.
Он расскажет вам, этот благородный кадет в журнале благороднейшего г. Струве, что из «квартиры одной очень известной в Париже революционной деятельницы» выдворили «не без помощи полиции» несчастную эмигрантку-проститутку, – что на балу с благотворительной целью «безработные» опять устроили скандал, – что переписчик в одном, известном г. Щепетеву, доме «забрал вперед довольно значительную сумму денег и затем стал манкировать», – что эмигранты «встают в 12 часов, ложатся во 2-м – 3-м ночи, весь день гости, шум, споры, беспорядок».
Обо всем этом лакейский журнал кадета г. Струве расскажет вам подробно, с иллюстрациями, со смаком, с перцем – ничуть не хуже Меньшикова и Розанова из «Нового Времени».
«Давай денег, а то морду побью – в такую недвусмысленно враждебную форму отлились отношения между верхами и низами эмиграции. Правда, формула эта не получила широкого распространения, и «крайнее течение низов» представилось» (так пишет грамотный кадет в журнале г. Струве!) «всего лишь десятком-двумя весьма сомнительных элементов, быть может, даже направляемых искусной рукой со стороны…»
Остановитесь на этом рассуждении, читатель, и подумайте о различии лакея обыкновенного от лакея-публициста. Лакей простой – конечно, в массе, исключая те сознательные элементы, которые уже стали на классовую точку зрения и ищут выхода из своего лакейского положения, – наивен, необразован, часто неграмотен и неразвит; ему простительна наивная страсть перебалтывать то, что всего легче до него доходит, что ему всего понятнее и ближе. Лакей-публицист – человек «образованный», принятый в лучших гостиных. Он понимает, что уголовных шантажистов в эмиграции ничтожнейшее число («десяток-два» на тысячи эмигрантов). Он понимает даже, что этих шантажистов «направляет, быть может», «искусная рука» – из чайной Союза русского народа{64}.