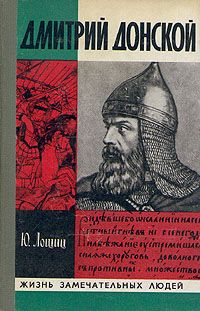Выслушав запутанное, но вполне правдоподобное объяснение, великая княгиня Софья, мать Василия Васильевича, вспылила и сорвала пояс с племянника (по праву он ведь должен принадлежать ее сыну!). Племянники — тут был еще и Дмитрий Юрьевич Шемяка — вспылили ответно, покинули свадьбу и тут же выехали из Москвы в Галич, к отцу. Разрыв был неминуем, не знал лишь никто ужасающих размеров его последствий.
Свадебное разоблачение давнишнего мошенничества С. Веселовский считает «басней» на том основании, что тут была чья-то явная интрига: поскандальней рассорить родственников, между которыми уже имелись некоторые трения. Но если «басня» была и полностью вымышленная, если никакой подмены поясов Василий Вельяминов в 1366 году не производил, то последствия злосчастного вымысла оказались разрушительными для русской действительности XV века. По крайней мере, Василий Васильевич Темный, злодейски ослепленный своими противниками, вряд ли мог поминать Вельяминова и весь род его добрым словом. Вряд ли приятно было помнить, что Вельяминов как-никак приходился родным дядей Дмитрию Ивановичу Донскому. Не здесь ли причина умышленной забывчивости летописцев относительно отчества матери Дмитрия, великой княгини Александры? Неприятно было помнить, что она — Васильевна, вельяминовского роду. Как-никак прабабушка.
Но не одна только «басня» о золотом поясе повредила Вельяминовым во мнении потомства. Десять лет спустя после свадьбы в Коломне «вельяминовский клубок» размотается до конца.
Было ли все же на уме у Дмитрия после пожара 1365 года перенести столицу своего московского княжества в Коломну? Предположение вполне допустимое, хотя, пожалуй, и чересчур мечтательное, даже с поправкой на юный возраст князя.
Ведь совершенно очевидно, что, если и пришла тогда в голову ему или кому-нибудь из наименее трезвенных мужей его совета мечта о Коломне-столице, большинство должно было тут же признать эту мысль никуда не годной. Никто не отнимает у Коломны ее значения, но она хороша именно как второй город, как крепкий щит московский на порубежной Оке. А сделай ее первой, тут же оскорбится Рязань, озлобится Орда. Это на юге. А как поведут себя соседи на севере, на западе? Пожалуй, и порадуются. Та же Литва, к примеру. Опустеет Москва, откуда же ждать скорой помощи Можайску, Рузе, Звенигороду, Волоколамску с Дмитровой? Княжество наше — как живое круглое тело. Москву из середины вынь — оборвутся все жилы животные, все бесчисленные связи и связочки, захиреют без привычной и близкой управы окружные города, старые людные села, слободы, деревни и погосты, починки и выселки, разомкнутся все трепетные узелочки, многими бережными руками в разные времена связанные. Но даже и не это, не это даже главное, а то, что Москва в стольких уже поколениях княжеская и великокняжеская. Пусть в ней ныне ни единого двора нету целого, пусть. Но она — не только лишь дерево и камень, не только богатые закрома. Она, перво-наперво, слово, и слово особое, давно уже у Руси на примете. Да обойдется ли теперь Русь, и не одна она, без этого слова? А слово цело, так подыщется для него и новая плоть. Не раз уже Москва от головешек зачиналась, замешивала жизнь свою на углищах и пепле. Она не из пугливых и слезам, как известно, не верит. Ей огонь — только для вящего закала. Она лишь молодеет, сквозь огонь пройдя… Словом, тут и доказывать нечего. Строиться надо, строиться!
Строиться Москва начала в том же пожарном году. И сразу повеселело на душе у москвичей — от праздничного вида бело-розовых, бело-голубых и воскового цвета плит известняка, от звона молотков и тесал, от тарарама многочисленных повозок. Город проклевывался там и сям золотыми всходами срубов, лез вверх из удобренной золою почвы, как крутобокий, не умещаемый в земле овощ.
Но тут встала перед горожанами, перед властью московской задача, решить которую было куда сложнее, чем понастроить жилья, амбаров, клетушек, лавок, банек и прочего, но которую решать надо было, ни на сколько не откладывая, если хотели, чтобы все это понастроенное имело хоть какой-то смысл.
Как быть с Кромником Калиты, вернее, с жалкими его нынешними остатками? После смерти Ивана Даниловича сооруженные при нем дубовые укрепления горели, включая и последний раз, трижды. В прежние разы стены кое-как возобновлялись: наращивали там и тут новую деревянную одежку, пространства между наружными и внутренними стенами срубов забутовывали булыжником и землей, поверхность бревен обмазывали, как и положено, глиной — охрана от скорого возгорания.
Ну а теперь что? Срубы почти все истлели, забутовка вывалилась наружу, как чрево из падшего коня. Вместо ладных и мощных когда-то укреплений — безобразные груды мусора. Можно, конечно, сделать видимость, кое-как пообровняв эти груды, залатав их деревом, а его покропив раствором известки, чтобы, когда обсохнет, отразилась в Москве-реке и Неглинке белая, якобы каменная крепость.
Нет, Дмитрию на месте нынешних осыпей упорно воображалась не поддельная, а настоящая белокаменная сила и краса. В эту-то Москву не стыдно ему будет и суженую привезти.
На Севере давно уже ставят каменные крепости, и новгородцы, и псковичи. И не только в больших, но и в малых городках — в Изборске построена, в Острове, в Ладоге. Но то Север, у них особая жизнь, иное представление о богатстве, у них всяк второй мужик — каменщик, а камень-валун на каждом шагу под ногой, только свози к месту и громозди.
А здесь, между Волгой и Окой, когда и кто строил из камня? Недавний случай с Борисом в Нижнем Новгороде не шел в счет, там и известь-то замесить не успели, как затейник отбыл восвояси. Один лишь действительный пример могли припомнить московские белобородые старцы, и то не на их веку было, а еще во времена доордынские, — это когда прапрапрадед Дмитрия великий князь Всеволод поставил каменный детинец вокруг Успенского собора в своем Владимире. Так и дни-то стояли совсем иные, благодатные для цветущего владимирского Ополья. И Всеволодов тот детинец — Дмитрий сам видел его остатки, когда ходил усмирять будущего тестя, — совсем малешенек. В Москве же, если строить каменный город, то никак нельзя, просто стыдно отступать от стен треугольного дедова Кромника. Границы же знатные: от угла до угла стрела не долетит.
Значит, опять уместно ему вспомнить: что взято, взято крепко. Давний ведь закон на московской земле: и умереть не мечтай, пока не добавишь хоть пол-лепты к тому, что сделано доброго до тебя и для тебя. Отец Дмитрия почил, мало что успев, теперь, выходит, сыну надо за двоих постараться. Каменный Кромник, кремник, город-кремень, ах, как бы хорошо-то! И пожары тогда не страшны и не опасны осады. При осаде больше всего боялись примета — это когда громадную хворостяную кучу подтащат, приметут к деревянной крепостной стене и запалят. И таранные бревна, железом окованные, не так будут камню досаждать, как досаждают они дереву, и метательные ядра, которые теперь, говорят, не из пращей и самострелов, а из пушек мечут.
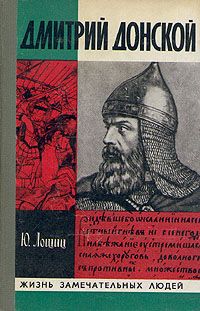

![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](https://cdn.my-library.info/books/37088/37088.jpg)