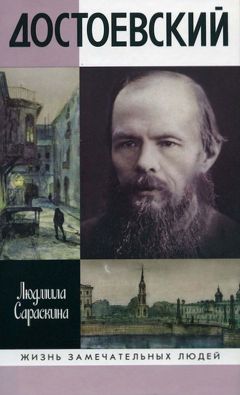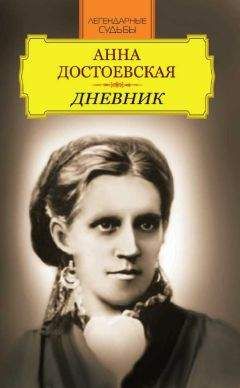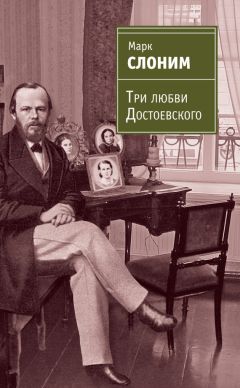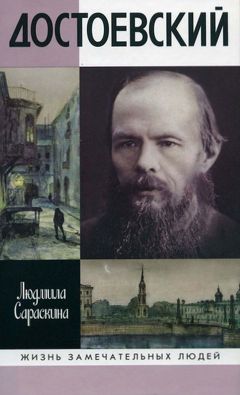Достоевский имел все основания писать в редакцию: «Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха». Письма первых читателей запечатлели невероятный восторг и потрясение. «Все наши беллетристы-психологи — со Львом Толстым во главе — не больше чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем... — писал Миллеру музыкальный критик, композитор и беллетрист Ф. М. Толстой, назвавший «Братья Карамазовы» идеальным произведением, а многие его сцены — вивисекцией, мастерски произведенным вскрытием. — Поэма, которая складывалась в голове Ивана, полна подавляющего величия. Если б можно было воскресить Лермонтова, он сумел бы сделать из этого pendant или, скорее, продолжение своего “Демона”. Инквизитор — это воплощение Люцифера, облаченного в пурпур и увенчанного папской тиарой. А в личности Христа, в его взгляде, преисполненном благодушия, которым освещено лицо Инквизитора, я вижу, мнится мне, вижу облик автора романа...»42
Дочь поэта Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александровны Е. Ф. Тютчева (на Катеньку Тютчеву как на возможную невесту в свое время поглядывал Л. Н. Толстой), прочитав седьмую книгу, в смятении писала Победоносцеву:
«Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить словом то, что одна жизнь может совокупить, и сильный человеческий дух, просвещаемый и наставляемый выше, примирить, т. е. соблазн внешней веры, малодушия и малоумия верующего — с беспредельною гармониею Истины. Есть глубокие ключи, которых не может, не должно касаться человеческое слово. Не словопрениями изгоняется сей темный дух соблазна и самовольного сомнения — но токмо молитвою и постом. Разоблачать язву, выставлять ее напоказ — можно, но кто ее исцелит?..»43
Вряд ли Достоевский согласился бы с мнением фрейлины — раз дерзал дотрагиваться словом и до глубинных истоков Истины, и до темного духа соблазна: язва, выставленная на свет, имела больше шансов на исцеление, чем та, что гнила и разлагалась под тугими повязками. Впрочем, отнюдь не все читатели придворного круга были столь скептичны. Записывая в дневник впечатления о чтении на вечере у графини Комаровской тех самых глав романа («Тлетворный дух» и «Кана Галилейская»), великий князь К. К. Романов (К. Р.) не мог удержаться от восклицания: «Мучительно, до ужаса хорошо!»44 Без тени высокомерия обсуждали великие князья разговор Ивана и Алеши в книге «Pro и Contra» (как обсуждали его, надо полагать, и во многих других гостиных столицы): «Спор поднялся ожесточенный, ум за разум стал заходить, кричали на всю комнату и ничего не разобрали. Что за громадная сила мышления у Достоевского! Она на такие мысли наводит, что жутко становится и волосы дыбом подымаются. Да, ни одна страна не производила такого писателя, перед ним все остальные бледнеют»45.
«Я в восторге от “Карамазовых”, — записал в свой дневник 5 ноября 1879 года член Славянского благотворительного общества и многолетний оппонент Вл. Соловьева в споре о католицизме генерал А. А. Киреев. — Его определение вечных мук ада — глубоко философское: невозможность любить и жертвовать собою и страдать за других. Едва ли когда-либо в русской беллетристике появлялось что-либо более глубокое»46.
Сохранилось письмо от доктора А. Ф. Благонравова из старинного уездного городка Юрьева-Польского Владимирской губернии, который сообщал автору «Карамазовых», что роман («захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов») читается в самых глухих местах и что провинциальная молодежь — чиновники и молодые купцы, воспитанные на пустых романах, — «перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается, — идет вперед»47. Достоевский письму обрадуется — мол, возрождается новая интеллигенция, которая хочет быть с народом и начинает поднимать голову, — и горячо поблагодарит за тонкое прочтение главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». «Здесь за то, что я проповедую Бога и народность, из всех сил стараются стереть меня с лица земли. За ту главу “Карамазовых” (о галлюцинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся “до чертиков”. Они наивно воображают, что все так и воскликнут: “Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!” Но, кажется, им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что этот человек (Ив. Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюцинации не мог видеть, кроме этой».
Искреннее восхищение безвестного доктора сценой из романа («описать форму душевной болезни, известной в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе с тем так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии...») было, кажется, много дороже писателю, чем пылкие восторги великосветских поклонниц — а ведь в их числе была уже и цесаревна Мария Федоровна, будущая русская императрица; узнав о знакомстве Достоевского с этой высокой особой и его встречах с ней у графини Менгден, а потом у великого князя Константина Константиновича, Катков «был приятно поражен, совсем лицо изменилось»; во время очередного визита писателя в «Русский вестник» он впервые вышел провожать его в переднюю редакции, изумив всех сотрудников.
Чувство обиды на несправедливые нападки возникало не на пустом месте. Достоевский знал, что вызывает у критиков, да и у читающей публики не только восхищение — пишущая братия никогда не щадила его, ставя в строку каждое лыко: недужность, забывчивость, раздражительность, «ретроградность». До него доходили высказывания собратьев по перу — о тяжелом впечатлении, которое производит его «нервическая чепуха». Флюиды неприязни проникали в печать, в гостиные, в уши знакомых. Любитель романа «Что делать?» шестидесятник Ф. И. Китаев писал своей знакомой Е. С. Некрасовой в ноябре 1879-го: «Это удовольствие находить наслаждения в ковырянии ран, и без того больных и трудно заживающих, — мне не по вкусу. Такое отношение к явлениям обыденной физической и психической жизни человека напоминает мне тех нищих калек, с голыми обезображенными частями тела, покрытыми язвами, которые с искусственно жалобными воплями разъезжают на клячах по деревенским базарам и всячески стараются привлечь к себе внимание и симпатию публики. Достоевский тот же калека. Я помню, что дети находят большое удовольствие ковырять или бередить свои болячки, не понимая, что этим только замедляют ход заживления. Помню, что за это, если они не слушаются, не отстают от своей привычки, их бьют по рукам. Достоевский — такое же дитя, с тою только разницей, что он старик-дитя. Я не удивляюсь, однако, что Достоевский находит себе поклонников, которые им восторгаются, во-первых, потому, что я признаю, что такого рода ковыряние в своей собственной душе свойственно каждому человеку в известном фазисе его развития, а во-вторых, потому что знаю еще и таких людей, которые до того любят ковыряться в своей душе, что это занятие вошло у них в привычку...»48 «Братьев Карамазовых» любитель Чернышевского считал «последним словом отживающего писателя»49.