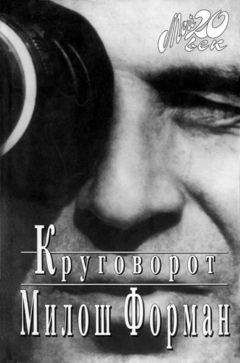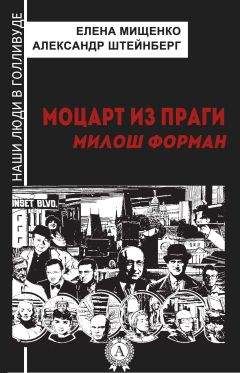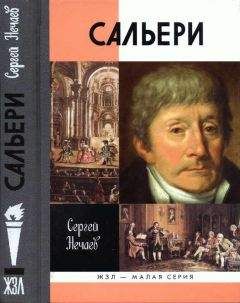Фрич несколько минут поговорил со мной о фильмах, которые мне нравились.
— Хорошо, — вдруг сказал он, — так вы хотели бы написать этот сценарий?
— О да! Да! — сказал я.
— Отлично, можете прийти в понедельник утром?
— Конечно.
— Если получится, попробуйте написать за это время первую сцену, чтобы у нас было о чем поговорить.
В понедельник утром я ехал в автобусе в пражский пригород с первой сценой в блокноте. Фрич жил один в большой вилле среди высоких елей.
Наше сотрудничество носило какой-то обрывочный и загадочный характер. Каждое утро я читал Фричу то, что написал накануне, обычно одну сцену. Он молча слушал. Я заканчивал чтение и закрывал блокнот. Фрич не делал ни замечаний, ни предложений. Создавалось впечатление, что он думал о чем-то своем.
— Ну так что будет дальше? — спрашивал он в конце концов.
Я рассказывал ему, о чем я собирался писать на следующий день. Фрич выслушивал меня так же молча, ничего не предлагая и ничего не критикуя. «Только не затягивайте» — вот и все, что он советовал мне. Я уходил и писал следующую сцену, стараясь быть как можно более кратким.
Наши рабочие утра быстро приобрели определенный характер и ритм. Фрич всегда приветствовал меня вопросом:
— Что вы будете пить, Милош?
Если я говорил, что хочу газировки, Фрич приносил мне ее, но если я просил пива, то за ним он всегда посылал меня самого. Большой холодильник в его кухне был почти пуст. Я ни разу не видел там каких-нибудь продуктов, но на самой большой полке стояла роскошная бутылка французского коньяка. Выглядела она так потрясающе, что я мечтал о ней каждый раз, когда заглядывал в холодильник. Мы никогда не касались в разговорах личных тем, но однажды я решился задать ему вопрос:
— Зачем вы держите эту бутылку коньяка, пан Фрич?
Фрич знал, что все знали, что ему нельзя пить, и он пожал плечами.
— В один прекрасный день мне станет на все наплевать, — сказал он спокойно, — и тогда я просто налью себе большой бокал чудесного коньяка.
Я от души надеялся, что мой сценарий не станет тем последним испытанием, которое заставит его открыть бутылку. Мы закончили работу за три недели, и Фрич казался довольным. Пани Новова получила гонорар как мой соавтор, хотя она, насколько я знаю, даже не удосужилась прочесть сценарий. Мне это было безразлично, потому что, когда сценарий приняли, мне заплатили 3000 крон, а это были самые большие деньги, которые когда-либо я держал в руках.
Впрочем, держал я их недолго.
За пару месяцев до этого я навестил Моравские Глазки в маленьком городке возле Бескидских гор, где она жила. Когда я столкнулся с ней на улице в Праге, она дала мне адрес, но я приехал неожиданно, и ее не оказалось дома. Ее мама сказала мне, что она может быть на берегу реки. Дело было жарким летним днем, и я нашел ее лежащей на полотенце и загорающей в полном одиночестве. Я улегся рядом и провел целый день в попытке очаровать ее.
У нас было немного общих тем для разговора, но мне удалось уговорить ее прогуляться в лесу. Наверное, ее, как и меня, преследовали сожаления об упущенных возможностях, мысли о том, что могло бы быть, если вернуться в прошлое и остановить время, поэтому она позволила мне соблазнить ее. Я уже давно не был мальчиком, но все произошло так, как если бы я был им, быстро, за несколько секунд. Я проводил ее домой, сел в поезд и уехал в Прагу и увиделся с ней вновь только в конце лета.
— Я беременна, — сообщила мне Моравские Глазки, когда мы снова встретились.
— О Господи.
— Это твой ребенок, потому что он больше ничьим быть не может, — сказала она.
Я попытался усадить ее и поговорить, но она уже все придумала сама. Она решила сделать аборт. У ее подруги был знакомый врач, к которому она собиралась обратиться. Все упиралось только в деньги.
Я был счастлив, что могу отделаться от этих проблем благодаря только что полученному гонорару за «Предоставьте это мне». Я был благодарен ей за то, что она так независима и так быстро обо всем позаботилась. В те дни в случае внебрачной беременности для каждого официального аборта требовалось согласие уличного комитета, состоявшего, как правило, из несгибаемых дамочек, нетерпимых к аморальному поведению. Они страстно хотели, чтобы молодые люди расплачивались за последствия своего легкомыслия.
Позже Моравские Глазки сообщила мне, что беременность прервана, все прошло хорошо и что она больше не желает меня видеть.
К этому времени Фрич начал снимать фильм по моему сценарию с Олдржихом Новым в главной роли. Иногда я приходил на площадку, потому что мне было интересно, как снимаются фильмы. Меня всегда удивляло, как просто и гладко все идет. На съемочной площадке устанавливали камеры, включали освещение и звали актеров. Актеры под наблюдением Фрича играли два или три дубля, а потом все переходили к следующему эпизоду. Это происходило почти что без разговоров.
У профессионалов студии «Баррандов» не было никаких иллюзий относительно мира кино, поэтому они и делали все по-простому. Это просто была их работа, но эта работа была посложнее, чем документальные съемки геройского труда наших рабочих где-нибудь на сталелитейном заводе.
Как-то вечером я пришел посмотреть результаты дневных съемок. Я ожидал увидеть тех же молчаливых, вдумчивых профессионалов, но меня ждал самый большой сюрприз за всю мою жизнь в кино. Фрич так хохотал над каждым дублем, что скоро начал икать. Я не мог узнать его. Я привык к сдержанному пожилому господину, который зря не произносил ни слова, а тут он чуть из кресла не вываливался. Я не верил своим глазам.
Мне хотелось понять, что же происходит со стариком. Все вокруг просто сидели и смотрели на экран, а Фрич хлопал себя по ляжкам и задыхался от хохота. Он казался совсем одиноким среди своей отрешенной группы, его поведение граничило с безумием, и я вдруг почувствовал неприязнь к этим дубовым профессионалам вокруг меня. Я влюбился в старика, я был тронут его полным погружением в работу, меня поразило, что он способен так радоваться ей.
Сейчас, когда я сам уже столько раз проходил через эту занудную работу, смех Фрича в просмотровом зале вечером после съемки еще больше восхищает меня. Воспоминание об этом смехе помогает мне понять, благодаря чему он сумел снять за свою жизнь такое невероятное число фильмов — более семидесяти, а может быть, к моменту смерти он вынашивал замыслы еще нескольких картин. Он все еще был силен, все еще искал новый материал, все еще работал, когда 21 августа 1968 года в страну вошли советские войска. На следующее утро,[2] когда танки Красной Армии грохотали по улицам Праги, Фрича нашли мертвым на его вилле. На столе стояли бокал и полупустая бутылка коньяка.