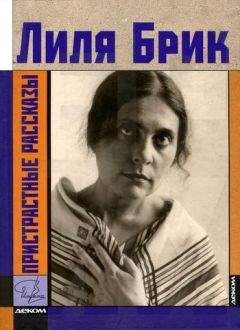Лиличка.
Напиши какое-нибудь слово здесь. Дай Аннушке.[42] Она мне снесет вниз. Ты не сердись.
Во всем какая-то мне угроза.
Тебе уже нравится кто-то. Ты не назвала даже мое имя. У тебя есть. Все от меня что-то таят…
В ответ на мой ответ о том, как я люблю его:
Лилик.
Пишу тебе сейчас потому, что при Коле не мог тебе ответить. Я должен тебе написать сейчас же, чтоб моя радость не помешала мне дальше вообще что-либо понимать.
Твое письмо дает мне надежды, на которые я ни в коем случае не смею рассчитывать и рассчитывать не хочу, так как всякий расчет, построенный на старом твоем отношении ко мне, может создаться только после того, как ты теперешнего меня узнаешь…
Мои письмишки к тебе тоже не должны и не могут браться тобой в расчет — т. к. я должен и могу иметь какие бы то ни стало решения о нашей жизни (если такая будет) только к 28-му. Это абсолютно верно — т. к. если б я имел право и возможность решить что-нибудь окончательно о жизни сию минуту, если б я мог в твоих глазах ручаться за правильность — ты спросила бы меня сегодня и сегодня же дала б ответ. И уже через минуту я был бы счастливым человеком. Если у меня уничтожится эта мысль, я потеряю всякую силу и всю веру в необходимость переносить весь мой ужас. Я с мальчишеским лирическим бешенством ухватился за твое письмо.
Но ты должна знать, что ты познакомишься 28 с совершенно новым для тебя человеком. Всё, что будет между тобой и им, начнет слагаться не из прошедших теорий, а из поступков с 28, из дел твоих и его.
Я обязан написать тебе это письмо потому, что сию минуту у меня такое нервное потрясение, которого не было с ухода.
Ты понимаешь, какой любовью к тебе, каким чувством к себе диктуется это письмо.
Если тебя пугает немного рискованная прогулка с человеком, о котором ты только раньше понаслышке знала, что это довольно веселый и приятный малый, черкни, черкни сейчас же.
Прошу и жду. Жду от Аннушки внизу. Я не могу не иметь твоего ответа. Ты ответишь мне, как назойливому другу, который старается «предупредить» об опасном знакомстве: «Идите к черту, не ваше дело — так мне нравится!»
Ты разрешила мне написать, когда мне будет очень нужно, это очень сейчас пришло.
Тебе может показаться — зачем это он пишет, это и так ясно. Если так покажется, это хорошо. Извини, что я пишу сегодня, когда у тебя народ — я не хочу, чтобы в этом письме было что-нибудь от нервов надуманное. А завтра это будет так. Это самое серьезное письмо в моей жизни. Это не письмо даже, это:
существование
Весь я обнимаю один твой мизинец.
Щен.
Следующая записка будет уже от одного молодого человека 27-го.
Письмо это запечатано красным сургучом, кольцом Маяковского.
Я сердилась на него и на себя, что мы не соблюдаем наших условий, но была не в силах не отвечать ему — я так любила его! — и у нас возникла почти «переписка». А несколько раз мы случайно столкнулись на улице.
Я получала письма почти ежедневно.
Дорогой и любимый Лиленок.
Я строго-настрого запретил себе впредь что-нибудь писать или как-нибудь проявлять себя по отношению к тебе — вечером. Это время, когда мне всегда немного не по себе.
После записочек твоих у меня «разряд» и я могу и хочу тебе раз написать спокойно.
При этих встречах у меня гнусный вид, я сам себе очень противен.
Еще одно: не тревожься, мой любименький солник, что я у тебя вымогаю записочки о твоей любви. Я понимаю, что ты их пишешь больше для того, чтобы мне не было зря больно. Я ничего, никаких твоих «обязательств» на этом не строю и, конечно, ни на что при их посредстве не надеюсь.
Заботься, детанька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что я еще буду когда-нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких выходок.
Клянусь тебе твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях, сквозь них, через них я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело.
Не ругай меня, детик, за письма больше, чем следует…
Москва, Редингетская тюрьма 19/123. Любимый, милый мой, солнышко дорогое, Лиленок.
Может быть (хорошо если — да!), глупый Левка огорчил тебя вчера какими-то моими нервишками. Будь веселенькая! Я буду. Это ерунда и мелочь. Я узнал сегодня, что ты захмурилась немного, не надо, Лучик!
Конечно, ты понимаешь, что без тебя образованному человеку жить нельзя. Но если у этого человека есть крохотная надеждочка увидеть тебя, то ему очень и очень весело. Я рад подарить тебе и вдесятеро большую игрушку, чтоб только ты потом улыбалась. У меня есть пять твоих клочочков, я их ужасно люблю, только один меня огорчает, — последний — там просто «Волосик, спасибо», а в других есть продолжения — те мои любимые.
Ведь ты не очень сердишься на мои глупые письма? Если сердишься, то не надо — от них у меня все праздники.
Я езжу с тобой, пишу с тобой, сплю с твоим кошачьим имечком и все такое.
Целую тебя, если ты не боишься быть растерзанной бешеным собакам…
Любимый, помни меня. Поцелуй Клеста. Скажи, чтоб не вылазил — я же не вылажу!
Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский зашифровал ее. В черновике: «Лиля в постели. Лиля лежит». В окончательном виде: «В постели она, она лежит». Маяковский в черновике посвятил ее «Лиле и мне», а напечатал «Ей и мне». Он не хотел, чтобы эта вещь воспринималась буквально, не хотел, чтобы «партнеров» и «собутыльников» вздумали называть по именам.
«Про это» перекликается с поэмой «Человек», написанной семь лет назад. Потому и название одной из глав — «Человек из-за семи лет». Уже в «Человеке» Маяковский начал войну с пошлостью, с обывательщиной, ставшими темой «Про это».
Нет, он начал ее раньше, еще в «Трагедии». Помните?
Я искал
ее,
невиданную душу…
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
Еще в «Трагедии» он объявил войну «чаепитию», и продолжалась она до самой смерти: «Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие».
После Володиной смерти я нашла в ящике его письменного стола в Гендриковом переулке пачку моих писем к нему и несколько моих фотографий. Всё это было обернуто в пожелтевшее письмо-дневник ко мне, времени «Про это». Володя не говорил мне о нем.
Вот отрывки из него:
Солнышко Личика!
Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это, по крайней мере, часов 500 непрерывного думанья!