В это лето, в свои четырнадцать лет, я впервые начал обращать внимание на женскую красоту. Я думаю, что просто было невозможным, чтобы этого не случилось: в то лето в здравнице были три редкостно красивые девушки. Первой была шестнадцатилетняя черногорка Милица Вучиевич, поразившая меня и красотой лица, и грациозностью движений. Похоже, она была профессиональная танцовщица или училась в какой‑нибудь балетной школе. Но это оказалось причиной моего крайнего разочарования в этой красавице. Как‑то больные устроили самодеятельный концерт (то, что стало потом называться капустником), и в нем выступила Милица Вучиевич, и вместо чего- то красивого и грациозного она исполнила, полуголая, какой‑то удивительно вычурный, манерный и совсем не красивый танец. Мое доброе отношение к ней совсем испарилось, когда я однажды зашел на ту дачу, где она обитала, и увидел у нее в комнате (правда, в присутствии пожилой женщины) одного из здравницких врачей, противного, сального, пошлого сорокалетнего дядю, который очень весело и очень примитивно за Милицей ухаживал, а она весело смеялась и была явно удовлетворена ухаживаниями этого субъекта.
Другой была тоже шестнадцатилетняя Мария Востокова, скромная, застенчивая школьница, державшаяся со свободной простотой, без всякой нарочитости и принуждения. Я видел ее совсем не часто, но навсегда запомнил ее милый образ. Третьей была семнадцатилетняя Мария Вольшлегер, одна из немецких «хожаток», каких в здравнице было много. Она просто сияла лучезарной красотой, целомудренным изяществом, какой‑то особенно чистой одухотворенностью. Пожалуй, красивее ее я не встречал женщин в своей жизни. И я очень беспокоился о ее дальнейшей судьбе, все ли у нее будет благополучно и счастливо. И успокоился, когда однажды пришел за хлебом в сарайчик, где его резал и раздавал необычайно славный двадцатилетний парень — украинец, Фома Савлук, и увидел, что сбоку у стола, на котором Фома резал хлеб, сидит Мария Вольшлегер и хохочет в ответ на веселые и остроумные шутки, которые произносит по ее адресу Фома. Она уже получила порцию хлеба для больных своей дачи, но не уходила, и я подумал, что если у нее установились близкие отношения с таким славным малым, то беспокоиться о ней нечего. Не знаю, как сложилась ее судьба, — на следующее лето почти весь персонал здравницы обновился, и ни ее, ни Фомы Савлука там не было.
В то лето произошел один любопытный, хоть и очень неприятный эпизод, взволновавший всю здравницу. Одна развязная и уже не слишком молодая девица приехала с очередной партией больных вторично под чужой фамилией. Записывая ее, я подумал, что где‑то уже видел ее, но решил, бывают же в жизни очень похожие люди. Размышлять больше мне было некогда — ждало своей очереди много народу. Но в тот же день ко мне пришла медсестра за историей болезни уже уехавшей из здравницы больной. Я спросил, зачем ей нужна эта история болезни, медсестра простодушно ответила: «А она уже была у нас, зачем же начинать новую историю болезни?» Я сообщил об этом бесцеремонном жульничестве Николаю Яковлевичу, он страшно возмутился и приказал немедленно проверить документы у всех находящихся в здравнице больных. До того проверять документы мне не полагалось, достаточно было путевки, надписанной в губздравотделе. Мне выпала довольно большая работа, но она прошла легко, потому что весть о таком экстраординарном событии мгновенно распространилась по здравнице и мне не приходилось объяснять каждому, зачем вдруг понадобилась такая проверка. Машу Востокову, у которой по причине ее возраста еще не было никакого удостоверения, привели две пожилые дамы, живущие на той же даче, что и она, чтобы засвидетельствовать ее подлинность, но я только извинился перед ней за причиненное волнение. Один больной выразил негодование по поводу такого недоверия к людям, заявив, что у него с собой никаких документов нет. Я этому сердитому дяде в канотье вежливо посоветовал съездить в город за документом и показать его мне, чтобы ему не пришлось покинуть здравницу. А преступную девицу, конечно, тотчас изгнали из здравницы.
Осенью первого года в здравнице один из врачей предложил мне работу зимой у него в туберкулезной поликлинике, и я согласился. Я делал там то же самое, что в здравнице, только при гораздо худшем начальстве: этот доктор Хачиков (вернее, Хачикян) был очень ленивым и неаккуратным, постоянно опаздывал к приему посетителей, вызывая недовольство у бесконечно ожидавших его больных. За всю зиму 1919–1920 года в поликлинике было только одно очень меня огорчившее событие. Я утром ушел в Губ- здравотдел, а когда вернулся и вышел из комнаты в коридор, то увидел уходящего Иванова — того молодого высокого белокурого наборщика, с которым подружился летом в здравнице. Он пришел без меня, и его записала медсестра. Я с радостью бросился к нему, но он улыбнулся мне и остановил рукой, сказав: «Не подходи ко мне, у меня тиф», — и ушел, закрыв за собой дверь. У него был туберкулез в далеко зашедшей степени, и он вряд ли мог вынести сразу две тяжких болезни.
Я ходил в поликлинику с Вознесенской улицы на Армянскую, бывшую у самой Волги, через весь город. Зимой это было сравнительно нетрудно, но весной 1920 года обернулось бедой. Я щеголял в валенках, у которых совсем оторвались подошвы, и эти подошвы были крепко привязаны накрест толстыми красными шнурами с первомайских знамен. В этой не слишком надежной обуви зимой по снегу ходить было все же спокойно. Но в городе всю зиму снег не убирали, и ранней весной он в один прекрасный день весь растаял сразу. В городе, расположенном на гористом берегу Волги, началось бурное наводнение. Мне в тот день пришлось идти на службу по сплошной воле, и мои гордо независимые подошвы пропустили в мои валенки ледяную воду со всего Саратова. Я жестоко простудился, и так как заменить негодные валенки было нечем, пришлось уйти с работы в поликлинике.
Я уже упоминал, что в наследство от этой поликлиники мне достался начавшийся туберкулезный процесс, быстро и энергично ликвидированный Николаем Яковлевичем Трофимовым и страшно напугавший мою маму.
Второе лето в здравнице, в 1920 году, не оставило в моей памяти каких‑либо существенных воспоминаний, кроме все более углублявшейся дружбы с Федором Марковичем Фальковичем.
В зиму 1920–1921 года мама не пустила меня работать, и я всю зиму просидел дома, разумно решив серьезно заняться своим образованием — и так два года были пропущены впустую. Я принялся за чтение тех книг из отцовской библиотеки (перевезенной из персидского консульства еще ранней весной 1919 года), которых не читал раньше, а также маминых книг, появившихся в нашем доме, когда мама поступила в Саратовский университет. Я принялся за брокгаузовский энциклопедический словарь и прочел все статьи по истории, философии и религии. Меня поразила блистательная статья Владимира Соловьева о Гегеле, и, вероятно, благодаря этой статье я пришел к заключению, что мои взгляды на мироздание всего ближе к Гегелю и Спинозе. Не скажу, чтобы я сумел сразу разобраться в прихотливом калейдоскопе человеческих размышлений и духовных исканий, но шаг в моем образовании был сделан немалый. Я все же основательно пополнил свои знания в естественно — исторических науках знаниями в науках гуманитарных.
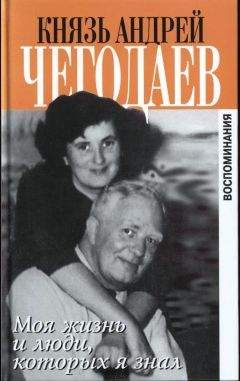
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


