На третьем курсе я стал ясно понимать, что мне нужно совсем иное высшее образование. Но окончательным толчком к уходу с математического отделения послужило событие вовсе не научного порядка. Весной 1925 года новым ректором Московского университета был назначен Вышинский, никакого отношения к науке не имевший. Это вызвало протест всего университета. Я присутствовал на общем собрании студентов, на котором произошло решительное столкновение с новым ректором. Гигантская физическая аудитория была набита битком, все проходы были заполнены сплошной массой людей — вероятно, было тысячи полторы присутствовавших. Речь Вышинского была встречена шумом и криками. Я видел, как один из студенческих вожаков спустился к кафедре с микрофоном с самого верха аудитории, быстро переступая по пюпитрам скамей. Результат столкновения был вполне естественный: Вышинский объявил чистку университета от всех нежелательных элементов. Я на эту чистку не пошел — было слишком противно. Но когда она кончилась, я решил все‑таки пойти и узнать собственную судьбу. Мне сказали, что я могу обратиться к председателю комиссии по чистке студенту Триусу (или Трейвасу? — точно не знаю). Я пошел туда, где жил этот Триус, в студенческое общежитие в подвале большого дома в Староконюшенном переулке. Я вошел в очень большую комнату со столбами посередине, поддерживающими потолок, где стояло по крайней мере пятнадцать кроватей. Но обитателей комнаты никого не было, кроме этого самого Триуса: он оказался толстым, круглым, очень розовым и курчавым, он возлежал на одной из кроватей в обществе смазливой девицы, и ему явно некогда было со мной изъясняться. Я сказал, что пропустил чистку и не знаю, что нужно делать. Он весьма благосклонно сказал, что я могу идти домой и ни о чем не беспокоиться — даже не спросив моей фамилии. Я ушел и больше в университет ходить не стал. О поступлении на другое отделение университета я расскажу дальше.
Вышинского я видел еще раз в своей жизни. Как‑то в конце тридцатых годов, живя летом на даче Александра Борисовича Гольденвейзера, дяди моей жены, на Николиной горе, я возвращался с Москвы — реки домой по Черному оврагу и встретил спускающегося сверху Вышинского, который шел купаться в сопровождении с двух сторон здоровенных телохранителей, обвешанных всякими дрекольями. Я сошел с тропинки и пропустил мимо себя эту компанию. Вышинский отлично знал, что политические процессы, которые он тогда вел, насквозь лживы, и трусил возмездия. Он напрасно беспокоился: в благодарность за свою грязную работу он был выбран в Академию Наук и чуть было не стал ее президентом.
Вышинский прибрал к рукам дачу на Николиной горе расстрелянного по его приговору Сокольникова. Тогда на Николиной горе чуть ли не треть дач оказались «вымороченными». Помню, как в 1937 году была «выпотрошена» дача Веньямина Михайловича Свердлова, брата Якова Свердлова, — как валялись в пыли на дороге изящный столик, какие‑то фотографии, пасьянсные карты… Вечером в день, когда был объявлен смертный приговор Бухарину и его сподвижникам, из санатория Совнаркома «Сосны» доносились развеселые звуки фокстротов — «победители» праздновали победу. Помню бледные, застывшие лица родителей… На склоне горы чуть ниже дачи Вышинского по весне расцветали совершенно небывалые цветы — интенсивно розовые ландыши, без запаха. Шептали, что это выступает из земли кровь казненных…
Одним из результатов (довольно случайных) моих долгих, смутных, трудных и разноречивых религиозных исканий было то, что летом 1922 года я отправился в библиотеку Толстовского мемориального музея, чтобы прочесть те религиозно — философские сочинения Толстого, которые не были пропущены русской цензурой и были изданы за границей. Это была толстая книга «Царство Божие внутри нас» и какие‑то статьи. Совершенно не помню, каким образом после того, как я несколько раз просидел в библиотеке музея и был знаком лишь с очень немногими сотрудниками его, мне было предложено стать секретарем музея. Я согласился, но был им самое короткое время — я же не мог, ходя на лекции в университет, сидеть при этом каждый день в музее и заниматься чисто канцелярскими делами. Поэтому я очень быстро отказался от звучавшей очень торжественно роли секретаря музея и перешел на положение сверхштатного научного сотрудника. Но для такого решения уже была подготовлена почва. В музее были сотрудниками не только люди, связанные какими‑то отношениями лично с Толстым или правоверные «толстовцы», считавшие себя преданными последователями Толстого, но и «обычные» ученые — литературоведы — прежде всего замечательный человек, ставший моим добрым другом и наставником — Константин Семенович Шохор — Троцкий. Вот знакомство с ним и стало причиной, что я на несколько лет остался связанным с Толстовским музеем в качестве сверхштатного научного сотрудника.
Шохор — Троцкий был одним из редакторов затеянного огромного 90–томного собрания сочинений Льва Толстого, включавшего впервые все его письма, дневники и записные книжки. Именно эти последние — дневники и записные книжки — были на попечении Шохора — Троцкого, и я оказался неожиданно очень полезным для него помощником. Я мог свободно разбирать чудовищно неразборчивый почерк Толстого. Записные книжки Толстого представляли собой маленького размера книжечки, сплошь, без всяких полей и просветов, заполненные текстом, который был изображен почти не различимыми строчками тесно поставленных наклонных прямых палочек вместо букв, потом мелко вписанные между этими строчками, повернутыми вверх ногами рядами точно таких же наклонных прямых палочек, затем вся страница была со всех сторон окружена надписью из таких же неразборчивых наклонных палочек. И при этом все слова были сокращенными! Какой интуицией я оказался обладающим, чтобы с точностью расшифровывать такую абракадабру! Меня эта работа увлекла, а потом прибавилась новая, еще более завлекательная.
Дело в том, что когда я впервые попал в этот музей, я был крайне удивлен его на редкость бездарной организацией. Музей, называющийся «мемориальным», представлял собой скопление разного вздорного хлама: портреты Толстого, сделанные из тряпок или сосновых шишек, галстуки и чайники с портретами Толстого, десятка три заржавевших и пыльных венков с могилы Толстого с грязными лентами и прочая ерунда такого же уровня. Директором музея был Валентин Федорович Булгаков, последний секретарь писателя, бывший в те времена совсем молодым студентом. Он абсолютно ничего не смыслил в музейном деле, хотя был весьма самоуверенным человеком. После смерти Толстого он выпустил книгу под названием «Лев Толстой в последний год его жизни», которую даже его близкие друзья называли «Валентин Булгаков в последний год жизни Льва Толстого». В самом конце 1922 года Булгаков был выслан из Советского Союза, как я думаю, по чистейшему недоразумению — его явно спутали со знаменитым философом Сергеем Булгаковым. Высылка Валентина Булгакова — ни за что ни про что — взволновала московскую интеллигенцию, и ему был дан торжественный прощальный банкет, на который пришли разные именитые люди вроде Немировича — Данченко. Адрес украсил своей акварелью Нестеров, изобразивший Толстого на берегу лесного озера, а текст поручили написать мне (знали, что у меня хороший почерк).
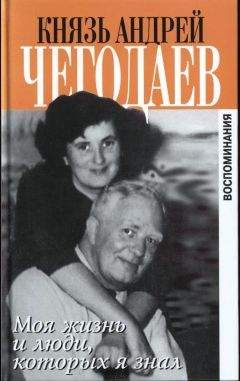
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


