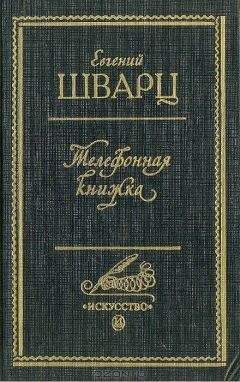Как бы праздничен. И вечер прошел весело. Наташа смеялась своим высоким, надтреснутым смехом. Хармс достал белые целлулоидные шарики, с которыми не расставался, и со своим обычным спокойным видом, словно ничего он особенного не делает, стал показывать фокусы. И это оценил Иван Иванович. Глаза его весело заблестели за густыми бровями, и дрогнули усы. Мы весело простились с ним. А на другой дейь прибежала к нам Ирина Сиповская и, едва успел я открыть ей дверь, сказала, что Иван Иванович умер. Что делать? Идти сейчас к Грековым? Но после такого страшного удара дом представлялся изменившимся, непонятным, разрушенным, как после взрыва. Сейчас там не до чужих. Ирина рассказала, что был Иван Иванович в Институте усовершенствования врачей. Шел по коридору под руку с приехавшим из Москвы Розановым [193] и еще каким‑то хирургом, фамилию которого забыл. Был он весел — обоих этих людей он очень любил. После заседания они собирались пообедать вместе. И Иван Иванович сказал: «Что это мы всё заседаем, заседаем — надоело!» и вдруг опустился на пол. Умер. Двадцать минут бились с ним друзья, вспрыскивали, что положено, все не хотели верить тому, что произошло. На гражданскую панихиду в Обуховской больнице пришли мы с Сиповскими какими‑то боковыми входами. Переполненный зал. Иван Иванович суровый лежит высоко в гробу. Поставлены кресла для семьи. Мы задержались в маленькой полутемной комнатке, здесь формировали четверки почетного караула. Попал в такую четверку и я. И едва занял я место у гроба, как Наташа вскрикнула горестно и тоненько: «Женя», и заплакала вся грековская семья. Всем припомнилось, как встречались мы до сих пор и вот как встречаемся мы теперь. Начались речи. Карпинский[194], тогдашний президент Академии, кроткий, до того старый, что вели его под руку, маленький, говорил с детской простотой, как ему жалко Ивана Ивановича. «Мы не были знакомы домами, но я знал, какой он хороший человек, какой ученый»
22 апреля
И когда Карпинского увели и одевали, он все оглядывался кротко, как добрый ребенок, и казалось, что от седин его исходит свет. Говорил на панихиде и Павлов[195]. У этого старость была стальная. Высокий. Надежный — сам поддержит под локоть, при случае. Такого вести не требуется. И речь свою начал так: «Великий учитель человечества, Христос, сказал: «Возлюби ближнего своего», — и зал зашевелился и зашелестел, пораженный, но тихонько, не нарушая похоронного чина. На похороны мы не пошли, все по той же ошеломленности, особой застенчивости. Народу собралось множество — огромная толпа проводила Ивана Ивановича до кладбища. И кто‑то из знакомых рассказал мне, что есть такое поверие: покойник встречает на том свете каждого, кто проводил его до могилы. И я подумал с огорчением, что меня Иван Иванович, значит, не встретит. Через несколько дней позвали нас к Грековым, и Елена Афанасьевна просила не оставлять дом, собираться, как в дни, когда. Иван Иванович был жив. И Сперанский за ужином сказал речь с бокалом в руке, сердитую речь по отношению к живым, смеющим полагать, что мог бы Иван Иванович прожить дольше, веди он более осторожный, осмотрительный образ жизни. «Прожил Иван Иванович ровно столько, сколько мог. И умер стоя, как римский император». В этот вечер впервые заметил я на маленьком столике кабинетную фотографию — Иван Иванович с маленьким Ваней на руках. На стуле, в свободной и легкой позе, придерживая легко мальчика, молодой, чернобородый, весело глядел он вперед и весь был полон той игрой, тем оживлением, что вспыхивало в его глазах до последнего дня. И я вдруг подумал: «Теперь я могу, вспоминая, выбирать любого Ивана Ивановича. Того, что на карточке, не существует больше. Но нет и того, что неделю назад жил среди нас, то задыхаясь, то приходя в себя. На этой карточке он счастлив, и легок, и весел. И вот о таком и буду думать сегодня. Он прожил целую жизнь — а я из нее выберу, чтобы утешиться, Ивана Ивановича молодым.
23 апреля
Без Ивана Ивановича сборища у Грековых стали догорать, дымить. Наташа еще некоторое время у нас бывала, но постепенно, постепенно этот период жизни переменился. Грековы исчезли, погасла беспокойная дружба с Наташей. Не могу вспомнить, как совершилось это замирание. Вскоре вышла Наташа замуж. Грековская бесконечная квартира смирилась, уплотнилась. С Грековыми совсем разошлись наши дороги году в тридцать пятом. А года три — четыре назад передавали по радио записанную на пленку мою встречу с детьми во Дворце пионеров. Там читал я сказку. А минут через пять после конца передачи — звонок. И нетерпеливый детский голос спрашивает: «Ну, а куда она ушла? Жаба?» — «А кто это говорит?» — «Ваня говорит. Куда она потом пропала? Зазвонил телефон, они выключили радио!» Тут раздался знакомый высокий надтреснутый смех, началом тридцатых годов пахнуло на меня — Наташа Грекова взяла трубку. Ее сынишка Ваня потребовал, чтобы вызвали к телефону меня, раз уж помешали дослушать передачу. Елена Афанасьевна умерла. Нелли и Наташа только и оставались в старой квартире. Ваня работал где‑то на периферии. Все это я знал, но, слушая Наташу, представлял я себе тот же бесконечный грековский дом и не в силах был представить себе другого. Увидел я потом и мальчика. Красивый, крепкий, глаза синие, немножко уж слишком независимый. На меня он поглядывал с удивлением, не лишенным насмешки. В прошлом году увидал я на площадке электропоезда Наташу. Ваня, уже школьник, стал прихварывать, приходится жить с ним в Зеленогорске. И такой отчаянный, такой непослушный! Наташа жаловалась не на прежний лад — ей, в сущности, нравилась определенность характера мальчика. Виски у Наташи чуть поседели, стал заметнее пушок в углах крошечного рта. Она работала в какой‑то лаборатории в каком‑то институте. Мне казалось, она — принцесса в изгнании — скорее довольна жизнью. Я записал ее телефон — вот откуда он в послевоенной книжке.
24 апреля
Следующий телефон — Гиппиус Никодим Васильевич[196]. Длинный, белокожий, длиннолицый, юный, когда увидел я его впервые, еще молодой сегодня. Как титул что‑то изменяет в твом представлении в ту или другую сторону, но непременно отражается на твоем отношении к человеку, так и Дима был для меня еще и Гиппиус. Этот род только что был владетельным в литературе. Не говоря уж о Зинаиде[197], отец Димы, Василий Васильевич[198], занимал вполне по праву заметное место в истории литературы. В этой науке, точнее говоря. Едва приехав в Ленинград, слышал я еще об одном Гиппиусе — забыл, по растерянности своей тогдашней, о котором. Кажется, его звали Владимир[199]. Говорили, что это человек, гениально одаренный. В памяти моей существуют едва освещенные пространства, в которые следовало бы вернуться для проверки. И вот в них‑то и занимает заметное место Владимир Гиппиус, о котором, как будто, говорили как о человеке трагически погибшем, не высказавшем себя. Есть и еще Гиппиус — или был, занимавший место в длинном списке секретарей Корнея Ивановича. Об этом, кажется, вспоминал Корней Иванович, улыбаясь и отмахиваясь. Должность оказалась тому не по конституции. Память о Зинаиде Гиппиус еще была совсем свежа в Ленинграде. Показывали дом Мурузи, где жили Мережковские[200]. С яростью говорил о ней Белый[201]. Сердился на нее и Корней Иванович[202]. Однажды, впрочем, уже много позже, в тридцатых годах, представил я ее себе особенно ясно в рассказе тетки Ираклия Андроникова[203], одной из тоже многоталантливой семьи Гуревичей. Она описала с врожденным этому роду мастерством молодую, надменную, блистательную, золотоволосую, насквозь литературную, окруженную поклонниками Зинаиду Гиппиус начала века. Больше всего говорила она о золотых волосах ее. И династический отблеск этого золота угадывался и в пышной шевелюре Василия Васильевича, и в длинных прямых волосах Димы, несмотря на дальнее родство. У Зинаиды Гиппиус не было ни малейшей примеси рыжего — именно золотые волосы. У Димы, пожалуй, цвет их мог чуть смутить. Профиль у Димы был чуть вял, сделан утомленной рукой.