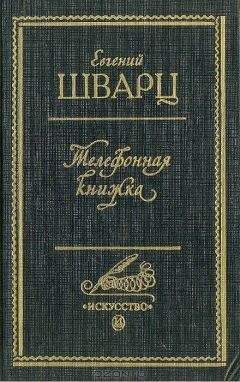Следующий телефон — группком домработниц. Несмотря на тяжелую Катину болезнь, до 34 года обходились мы без чужого в доме.
28 апреля
Потом пришлось нам пережить это сложное изменение в домашнем укладе. В войну снова обходились мы своими силами. Потом, после того, как снова заболела Катюша в 49 году, опять появилась у нас домработница. До войны помещался их группком в многоэтажном доме на улице Пестеля, недалеко от Фонтанки. Помещался он в самом первом этаже, за витриной, словно какое- нибудь ателье. Отношения были до крайности просты: зайдешь, заключишь договор, внесешь деньги за марки и все тут. После войны обнаружить группком удалось не сразу. Нашелся он возле ТЮЗа на Моховой во втором этаже дома новой стройки. Никаким образом не шел он тут тебе навстречу, как на улице Пестеля, не глядел на тебя приветливо из‑за чисто вымытых витрин. Здесь он преобразовался в существо недоверчивое и строгое. Катюша хворала, и в первый раз отправился я на заключение договора с домработницей. Я попал в женское царство. Впрочем, какое там царство. Здесь никто не царствовал и не управлял. Тут служили. Кому? Не работникам коммунального хозяйства. И не их нанимателям. И не самим себе. Строгие и недоверчивые женщины служили строго установленным правилам. Если в их недоверчивости и строгости, в страстности, с которой они проявляли эти свойства существа своего, сказывалось и нечто личное, человеческое, то это было результатом событий, разыгравшихся за стенами учреждения и не имевших к нему отношения. Их кто‑то обидел и тяжело обидел, может быть, муж, может быть, любовник, может быть, сама жизнь, и теперь женщины эти хотели показать нам всем, что больше это никому не удастся. Я должен был принести целый ряд справок. Например, что домработница не состоит со мной в родстве. Причем, неясным оставалось, кто может дать такую справку. Выяснилось, что я сам, а домоуправление должно было заверить только мою подпись. Справка о заработке. Я предложил считать по максимальной ставке. Нельзя без справки. Справка из милиции. Возможно, что каждая из справок была разумна и целесообразна, но никто и попытки не делал объяснить это нам. Напротив — тайно радовались непониманию нашему.
29 апреля
Но все кончилось хорошо в конце концов. Договор был заключен — это раз. А во — вторых — больше ни разу не пришлось мне побывать в этом матриархате. Причем обращались матери со всем миром, словно мачехи.
Следующая фамилия Григорович Юрий Николвич[210]. Он пришел поговорить, разузнать — не соглашусь ли я написать либретто для балета. Был он артистом Кировского театра и, в отличие от балетных мальчиков, с самых первых слов произвел впечатление человека, а не только цветущего растения. Он уже пробовал себя в качестве балетмейстера и надеялся получить постановку. Черненький, большеротый, среднего роста, подобающей худобы и ладно скроенный. Ведь их измеряют сантиметром, прежде чем примут в балетную школу. Я начал говорить с ним относительно его намерений. Конечно, ему хотелось сказку. Преодолевая некоторое отвращение, я стал беседовать с ним на эту тему. Отвращение, точнее страх, вызывал не будущий балетмейстер. Боже избави. Боялся я духа, что властвует в их театре. Вот где было царство женщин, да еще молодых и жадных до работы. Да. До работы прежде всего. Во имя этого шли они на все. Один физиолог рассказывал, что кто‑то из его собратьев собирался заняться специальной работой о танцовщицах. Зная, сколько работают они у штанги, на репетициях, на спектаклях, он считал их выносливость загадочной. Он полагал, что в организме их должны произойти изменения, еще неизученные. Возможно. Во всяком случае — все у них было направлено к одному, все силы их существа: к балету. Драматические актрисы чаще вели жизнь обычных млекопитающих. А балерины любили страстно, сильнее всего в мире — танцевать. И это фантастическое, вне- женское, на первый взгляд, монашеское стремление не могло бы оттолкнуть меня — напротив. Пугали пути, которыми добивались они удовлетворения страсти. Володя Дмитриев[211], который не только писал великолепные декорации, но и балетные либретто, с кем‑то вдвоем, жаловался однажды Акимову. Балерина написала на него заявление. Самый факт его ничуть не удивлял. Он принял его вполне спокойно.
30 апреля
Словно являлся он естественной функцией балерины. Володя только никак не мог припомнить и понять, за что. При распределении ролей был он на ее стороне! Словом, все было естественно, огорчала только непонятность поступка. Когда встречал я тощеньких, не имеющих веса, все больше почему‑то черноглазых, миловидных и таких кротких, не то, что злых мыслей, а просто мыслей не имеющих балетных девушек, то испытывал раскаянье. Они были так естественны, так сами по себе. Словно цветы. И только, когда начинали они рассказывать о подругах, то снова проскальзывало нечто сомнительное, угрожающее. Два последних, по времени, рассказа оказались таковы: одна девушка, неожиданно получившая роль, стоя под сценой у люка так испортила воздух, что рабочие чуть не упали в обморок. Так позорно волновалась она перед выходом. А второй рассказ обвинял балерину некую в том, что пользовалась она ящиком стола как уборной. И все эти рассказы касались молодых, борющихся за право работы. И были, очевидно, порождены злобой. Однажды во время войны я сидел в директорском кабинете в театре города Кирова. Великолепное здание на грязной площади. Великолепный кабинет с бархатной мебелью. И вдруг коротенький, полненький директор театра встает из‑за стола, подходит к дивану, стоящему у стены напротив, и, легко подняв короткую свою ножку, принимается давить нечто живое и многочисленное на бархатной диванной спинке. Червяки выползли из диванных недр. И я подумал: «Чего только не заводится в театре». Итак, испытывал я малодушный страх при мысли о недрах Театра оперы и балета. Но вот попадешь на балетный спектакль — и словно свежим ветром рассеивается сплетнический, за глотку хватающий туман предубеждения. Великолепное, близкое музыке, вне смысла лежащее зрелище охватывает твое сознание. Стройно, словно звуки в оркестре, сочетаются и разлетаются на огромной сцене массы человеческих тел. И как в музыке — появление нового, очищенного от привычных представлений смысла. И чистота.
1 мая
И как всегда в переживаниях подобной высоты, похожее на влюбленность чувство жажды. Со смутным сознанием, что утолить ее — нет надежды, нет способа. И при встрече с Григоровичем последнее ощущение смутно заговорило во мне. И я как будто испытал желание присоединиться, стать участником того, что видел на сцене. Впрочем — очень смутное. Яснее говорило единственное, неизменное и могучее чувство, сопровождавшее меня всю жизнь — оставьте меня в покое. Опыт научил, что для этого спокойнее всего — изъявить согласие, а там видно будет. И я согласился подумать. Но у Григоровича натура оказалась здоровая. Он вовсе не хотел покоя, а хотел либретто. Он зашел еще раз и еще, и кончилось дело тем, что я, к собственному удивлению, придумал нечто, соответствующее моему представлению о балете. И Григоровичу это понравилось. И я рассказал, по своей привычке слишком много болтать о том, что едва придумано, проект либретто Дзержинскому[212], который состоял завлитом в Кировском театре. Оттуда позвонили. Потом прислали письмо. И я стал писать заявку, которую они с меня требовали. Но едва я дошел до середины, как в Комарове, когда не было меня дома, появился человек, отлично одетый и крайне самоуверенный. Он сообщил Кате, что вызван из Москвы Кировским театром, дабы стать моим соавтором. У него большой опыт в этой области. Он уже отыскал композитора. И так далее. И так далее. Я ужаснулся. Еще не прочтя либретто, не зная толком, в чем тут дело, разыскали они мне соавтора, который в свою очередь добыл композитора. Ну и дельцы! И обычное желание — оставьте меня в покое — разгорелось непобедимо. Профессионал кинулся мне наперерез, и театр полностью пошел ему навстречу[213]. Это заставило меня прекратить работу. Но до сих пор я раскаиваюсь. Надоело мне отказываться. Зачем поддался я совершенно бесплодному ужасу. Балет царствует себе, не глядя на своих цариц и паразитов. И самоуверенный делец помог бы мне наяву пробиться к тому, что мне только приснилось. Но уже поздно.