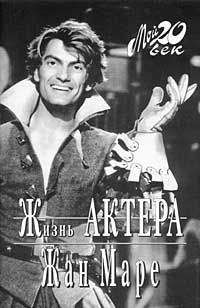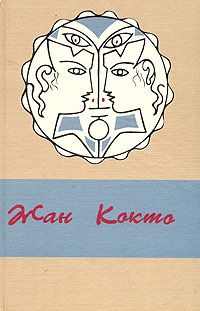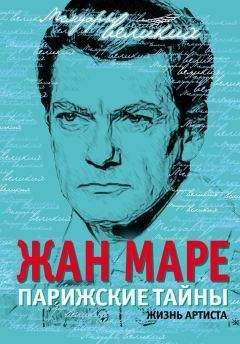Спектакль «Трудные родители» продолжал идти с неизменным успехом, и я был по-прежнему счастлив этим. Во время одного из вечерних спектаклей директор Роже Капгра сообщил мне, что какой-то молодой человек в пижаме небесно-голубого цвета, в домашних тапочках, с бутылкой виски и блоком из пятидесяти пачек «Честерфильда» в руках обратился к контролеру с просьбой найти ему место в зале.
— Поскольку он пришел ради тебя, а в зал я его пустить не могу, направляю его к тебе.
В антракте я поднялся в гримерную, совершенно позабыв о посетителе. Я увидел там молодого человека, американца, который сидел на полу, курил и пил. Несмотря на свое странное одеяние, он был элегантный, очень красивый, обезоруживающий непосредственностью своих девятнадцати лет. Я спросил, почему он пришел в театр в таком виде, заметив, что меня это нисколько не шокирует. Он отвечал, что болен, что друзья унесли всю его одежду, так как знали, что он собирался пойти на спектакль. «Поэтому мне пришлось выйти в пижаме», — закончил он.
Я поместил его в закрытой сеткой ложе бенуара — такие еще существовали в то время. После спектакля моим товарищам захотелось на него взглянуть. Мы с Жаном отвезли его на улицу Бак, где он жил, на моей «Ликорн» — машине, историю которой я забыл рассказать, а она имеет историю.
Роже Капгра был необычным директором. Как-то он сказал мне:
— У героя-любовника должна быть машина. У тебя есть права?
— Да.
На самом деле я получил права случайно, за пять лет до того. С тех пор я ни разу не садился за руль. Понятно, что, не имея никакой практики, я не умел водить машину.
— Так вот, — продолжал Капгра, — в Клиши продаются две подержанные машины. Поедешь туда, выберешь, какая тебе понравится, и вернешься на ней. Я дам деньги, а потом буду удерживать часть суммы из твоего жалованья.
Я поехал в Клиши. Мне предстояло выбрать между «Грэмпедж» и «Ликорн». Первая — огромная американская машина, наводила на меня страх, вторая — небольшая двухместная машина с откидным верхом. Я взял вторую и отправился в путь.
На проспекте Клиши я столкнулся с такси. Своим бампером я зацепился за его бампер. Водитель такси орет, возмущается. Я вылез из машины, высвободил свой бампер, но забыл поставить тормоз, в результате чего машина сама откатилась назад и столкнулась с автобусом. Водитель автобуса тоже стал орать.
Я смотрю на обоих водителей и смущенно говорю: «Простите меня, я не умею водить».
Они дружно хохочут и помогают мне отъехать, так как, ко всему прочему, у моей машины заглох мотор и я не могу сдвинуться с места.
1939 год был для меня самым счастливым, потому что я добился первого настоящего успеха и потому что дебют — самый волнующий момент в жизни.
Я забыл сказать, что на следующий день после премьеры «Трудных родителей» я получил странную корзину с цветами аронника и ландышем, обильно посыпанными золотой пудрой. Нечто удручающее. Удивленный Жан Кокто спросил:
— Кто мог прислать тебе такую мерзость?
Даже не взглянув на карточку, приложенную к корзине, я ответил:
— Это может быть только режиссер М.Л.
Прочитав карточку, мы убедились, что я не ошибся.
Мной заинтересовались кинопродюсеры. Один из них пригласил меня на роль в фильме «Засада» по пьесе Кистемэкерса. Уже были подписаны контракты с Валентиной Тессье и Жюлем Берри. Мне было лестно сниматься с такими актерами, и я подписал контракт. Принесли сценарий. Я в ужасе. Звоню продюсеру, чтобы отказаться. Он передает трубку Жюлю Берри, и тот пытается меня уговорить. Робея перед великим актером, я не смею настаивать на своем. Повесив трубку, я пишу продюсеру заказное письмо, в котором заявляю, что, чего бы мне это ни стоило, отказываюсь от роли в его фильме. Пришлось одолжить деньги и заплатить неустойку, чтобы вернуть себе свободу. Таким образом, моя кинематографическая карьера началась с того, что я заплатил, чтобы не играть. Чтобы меня утешить, Жан обещал перенести на экран «Трудных родителей». Но я не нуждался в утешении — я был счастлив, моя работа меня опьяняла.
Во всяком случае, я считаю, что тому, кто играет в театре, обеспечено три часа счастья в день, что бы с ним ни произошло. Я предавался работе, как другие предаются пороку, достигая почти пределов наслаждения.
И вот однажды на моем преображенном от радости лице появились признаки странного заболевания: бляшки, затем мокнущие корочки, которые приходилось сдирать каждый вечер, чтобы наложить специальную мазь, а поверх нее грим. Через какие-нибудь четверть часа эти места снова начинали сочиться. Я консультировался у огромного количества. врачей, которые предполагали у меня болезнь печени, какую-то невозможную венерическую болезнь. Однажды, когда Жан выступал с лекцией, я случайно увидел свое лицо в зеркале и разрыдался. Жан отвез меня домой, тщетно пытаясь успокоить. Я не переставал плакать при мысли, что скоро не смогу играть. Я предпочел бы самый ужасный внутренний недуг. Наконец один специалист определил, что у меня детская болезнь — сыпь. Он дал мне ртутную мазь, предупредив, что есть один шанс из тысячи, что я ее перенесу. Когда я нанес мазь на лицо, мне показалось, что я умираю, схожу с ума. Мазь жгла, но я мужественно терпел, настолько велико было желание выздороветь. Зажав в зубах платок, с глазами, полными слез, я бродил по комнате, ударяясь о стены.
Жан умолял меня стереть мазь. В конце концов в шесть часов утра я уступил. У него был такой вид, будто он страдал еще больше, чем я. Я вытер и промыл лицо. Кожа сожжена. Раздражение вызвало у меня что-то вроде насморка. На следующий день врач прописал другую мазь, и через два дня я был здоров. Все это время я продолжал играть в театре.
Неожиданно во время первого акта у меня на сцене пошла носом кровь. Я пытаюсь остановить ее, прижав к носу платок, но скоро он становится насквозь мокрым. Я беру второй, из грудного кармана, — то же самое. Жермена Дермоз дает мне свой платок, затем шарф. Зрители из первых рядов протягивают мне свои платки, намоченные в умывальной. Кровь все течет и течет. И так весь первый акт.
В антракте прибежал дежурный врач, сделал мне укол и напустил в нос газу. Я играю последние два акта, ощущая, что кровь течет мне в горло.
На следующее утро я проснулся с резкой болью в ушах: у меня двусторонний отит. Врач сказал, что снимает с себя всякую ответственность, если я вечером выйду на сцену. От каждого произнесенного слова у меня разламывается череп. На следующий день об игре не может быть и речи — температура сорок один и бред.
Молодой актер Ив Форже, который играл Сеграмона в «Рыцарях Круглого стола», выучил роль тайком от всех. Хотя внешне он не подходил для персонажа — он креол, его охотно взяли. Он обесцветил свои черные курчавые волосы. Спектакли не были прерваны. Сборы снизились. Я очень горд этим. Но, как бы там ни было, я был очень болен и страдал еще больше оттого, что не играл.