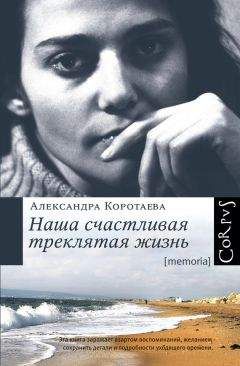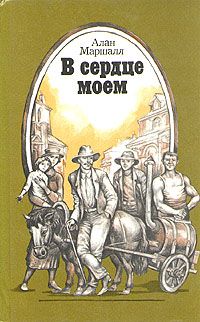Мамин отец, Пантелеймон, еще до революции закончил коммерческое училище в Москве и был всю жизнь главным бухгалтером на небольших предприятиях в разных городах: Орел, Нальчик, Нефтегорск, Воронеж, Тиберда и наконец Феодосия. У него было три брата. В Гражданскую двое воевали в Белой армии, а он с младшим — в Красной. Тихий Дон! При окончательном раскладе политических сил один брат застрелился, двое уехали в Америку.
Мамину маму, мою бабушку, звали Татьяна. По ее линии в роду были священники, кто-то был пресвитер. Увидела Татьяна где-то Пантелеймона и полюбила его безумно. Поженились они, и на станции Трисвятское под Воронежем родились у них дети: мама, а через два года мамин любимый брат Валя. И все бы хорошо, если бы Паня не гулял отчаянно и не любил выпить. И то и другое делал он регулярно. Каялся, просил прощения, но ничего сделать с собой не мог: бабы одолевали его, как оводы лошадь на водопое. Не стесняясь ни жены, ни детей, они сами приходили или приезжали к нему, и тогда он на какое-то время исчезал.
Татьяна брала детей и бежала куда глаза глядят. Мама помнила, как она еще в раннем детстве лежала на соломе в телеге с совсем маленьким Валентином, а мать сама, стоя, правила лошадью и все оглядывалась, боялась, что Паня догонит. Пантелеймон и догонял, семья снова воссоединялась.
Мамина семья переезжала из города в город не всегда по собственному желанию. Времена были лихие, то здесь, то там постреливали у стеночек, руку набивали, а у Пани братики в Белой армии были, да потом еще и к американцам подались, и знал об этом не он один. Чутье у Пантелеймона звериное было (не случайно Татьяну с детьми отыскивал в два счета). Так вот, когда кого-то из знакомых сажали в «воронок», Пантелеймон уже понимал, что нужно делать ноги, — завтра придут за ним. Хватал семью, и в ночь-полночь уезжали в никуда. Позже доходили слухи, что вовремя уехали, не раз дело решали буквально минуты. Но покой наступал ненадолго. Только начнут жить на новом месте, опять — хватай родных и беги. Живи и оглядывайся.
Все-таки перед Великой Отечественной Пантелеймон угодил в тюрьму. В Феодосии по пьяному делу у него разрезали портфель и вытащили все служебные документы. Дали срок, а тут война, и пошел он воевать в штрафных батальонах. Смывать, так сказать, вину перед родиной кровью. Воевал хорошо, это делать ему было не впервой.
Умер в Вятке, в госпитале, от ран. Похоже, что дослужился до офицера, поскольку похоронен не в братской могиле, как рядовые, а рядом, в отдельной. Лежа в госпитале, он прислал домой письмо, написанное под его диктовку санитаркой: так и так, сражался, отличился подвигами и наградами, ранен, умираю, простите за все, на коленях прошу прощения у Татьяны, жены своей любимой. А прощать было что: перед войной он жил не с семьей, а с женщиной, которая родила от него сына Адольфа. И на письмо наша мама ответила отцу так: «Милый папа, просить прощения больше не у кого, жена твоя, наша мать, погибла». Вскоре пришло еще одно письмо, писанное той же санитаркой: мол, ваш милый папа, узнав о гибели жены, сразу вздохнул и помер.
Так-то. Да…
Непростой характер был у нашей мамы. Впрочем, у бабушки Татьяны тоже не простой. Когда Вале было лет двенадцать, он поранил ногу и началось заражение крови. Врачи решили ампутировать ногу, а бабушка, любя Валентина больше жизни, сказала: «Не дам резать. Пусть умрет. Калекой он не будет». Дядя Валя выжил. В 1930-е годы, когда сослали на Соловки всю Татьянину поповскую родню, она упрямо посылала им письма и посылки, вязала носки и сушила яблоки, рискуя попасть под репрессии, как они.
Бабушка от природы была женщина умная, ловила все на лету, хотя образование — церковно-приходская школа. У нее под подушкой лежал учебник математики: на сон грядущий школьные задачки решала. А однажды она, когда уехала с детьми в какое-то село, где ее поставили агрономом, освоила эту науку так, что тамошнее сельское хозяйство окрепло. Мама нам с Нанкой рассказывала: проснувшись ночью, часто видела мать спящей за столом. А на нем гора всяких книг, учебников…
Наша же мама любила только гуманитарные предметы и уроки танцев, которые были тогда обязательными. Учитель всегда показывал новый танец в паре с ней, потому что она никогда не наступала на ноги.
А страстью ее была музыка. Она пришла в музыкальную школу, будучи почти взрослой, заканчивая общеобразовательную. Училась у Вениамина Людвиговича Гауфлера. Гимназический друг Максимилиана Волошина, он был из крымских немцев. Жил в Берлине, получив там образование и статус профессора Берлинской консерватории, вернулся в Феодосию и основал существующую здесь до сих пор музыкальную школу.
Отношения мамы и Гауфлера были не просто отношениями учителя и ученицы. Они дружили. Он видел в ней дарование и готовил любимую ученицу в Одесскую консерваторию. Вениамин Людвигович приходил к маме домой и говорил бабушке: «Не заставляйте Симочку, уважаемая Татьяна Ивановна, заниматься бытом. У нее другое предназначение». Если бы не война, может быть, действительно мамина судьба сложилась иначе. Как, впрочем, у многих, кто пережил то время.
Мама с детства видела плохо, но очки носить отказывалась. Два раза Гауфлер покупал ей пенсне, но она по своей неприспособленности к повседневной жизни разбивала их чуть ли не в тот же день. Тогда он смирился и сказал: «Господь не хочет, чтобы вы видели, он хочет, чтобы вы чувствовали и слышали». Сам же Гауфлер пользовался слуховой трубкой, как Бетховен, и шутил, что это сходство примиряет его с недугом.
Разумеется, любимым маминым композитором стал Бетховен. У нас были ноты, подаренные Гауфлером: сонаты Бетховена с королевской печатью. С «Патетической» сонатой Бетховена мама выпускалась. Позже гауфлеровскими нотами с его пометками пользовалась в училище и в консерватории Надя. Потом они куда-то делись.
Мамина подруга, учившаяся тоже у Гауфлера несколькими классами младше, рассказывала: когда учитель занимался с мамой в классе, она, еще ребенком, сидела на полу под дверью и пребывала в каком-то эйфорическом восторге от звуков, наполнявших школу. Кроме мамы, так никто не играл.
Гауфлер часто баловал маму конфетами, говоря: «Симочка, не могли бы вы сбегать в кондитерскую за конфетами, ужасно хочется сладкого». Потом брал одну-две, а остальные незаметно клал маме в портфель.
До конца жизни мама помнила своего педагога и друга, и все, что он ей успел дать, осталось в ней навсегда. Помню, когда Надя училась в консерватории и у нее возникали трудности с каким-нибудь сложным местом в произведении, мама всегда точно подсказывала, как работать над пассажем. И всегда слышала, если Надя «гнала порожняк»: «Лучше вообще не садиться за инструмент, чем играть вхолостую».