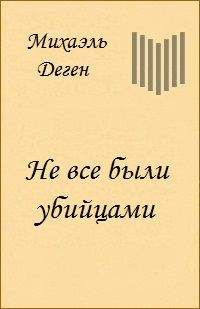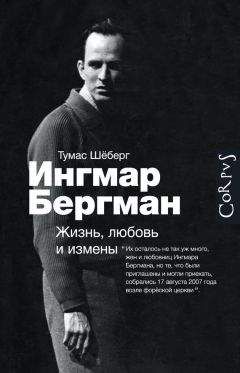«И хорошо бы еще взять у Людмилы шарф», — добавила она.
Я снова поднялся на пятый этаж, нашел перчатки, попросил у Людмилы шарф и побежал к матери. Она стояла в сквере близ Оливаетплац и разговаривала с каким-то мужчиной. В мою сторону она даже не взглянула, наоборот, незаметно сделала мне знак рукой — беги, убегай отсюда. Я тотчас свернул в боковой скверик, но прятаться там не стал, а спокойно, как мне казалось, пошел вниз по Людвигкирхштрассе. Свернув на Эмзерштрассе, я пустился бежать. Я бежал изо всех сил. Не останавливаясь, я добежал до Фазаненштрассе. Шок, испытанный мною в первые минуты, постепенно прошел. Теперь я мог обдумать случившееся спокойнее. Поведение матери могло означать только одно: опасность, большую опасность. Еще раньше мы с матерью договорились — в подобном случае в течение двенадцати часов время от времени подходить к условленном месту, но не оставаться там, а через какое-то время уходить и потом появляться там опять. И если мы сможем оба прийти к этому месту, мы когда-нибудь там встретимся. Нашим условленным местом был относительно спокойный вокзал Бельвю в районе Тиргартен. Я отправился туда. Я хотел было снова побежать, но потом подумал: матери там наверняка еще нет. Если она вообще там появится. А кроме того, кому-то могло показаться подозрительным, что мальчик бежит по улице как раз в то время, когда все дети должны быть в школе.
Я попытался пройтись по улице, но не смог. Я был слишком возбужден и от этого даже стал спотыкаться. Наконец я добрался до вокзала Бельвю и заглянул в кассовый зал. Матери там, конечно, не было. Задерживаться в кассовом зале я не стал. Я покружил немного по вокзалу, время от времени поглядывая в сторону кассового зала. Там не было ни души, кроме кассирши в окошке для продажи билетов. Заметив, что я слоняюсь по вокзалу, подняла голову и, как мне показалось, с подозрением уставилась на меня.
«Надо быть осторожнее», — подумал я. Если кассирша что-то заподозрит, это может оказаться опасным и для матери. Мной овладел панический страх. Я снова бросился бежать, пересек Альтмоабит, добежал до Турмштрассе, потом пустился вверх по Штроммштрассе и, наконец, повернул назад к вокзалу.
Неожиданно для себя я оказался на Лессингштрассе перед домом, где мы когда-то жили. Дом почти не пострадал от бомбежек и возвышался среди руин как поднятый указательный палец.
«Когда война кончится, мы с матерью и братом будем снова жить здесь», — сказал я себе.
Думаю, это был единственный дом, в котором отец хорошо себя чувствовал.
«Это прекрасное место», — часто повторял он.
В то время мы — отец, старший брат и я — часто совершали воскресные прогулки по городу. От вокзала Бельвю мы доезжали до Фридрихштрассе и потом шли вдоль улицы, пересекали Унтерденлинден и оказывались на Францезишерштрассе и Жандарменмаркт, любимом месте отца.
Шел 1938 год. Я не ходил еще в школу и не слишком любил эти пешие прогулки, но брат, который был старше меня на четыре года, без конца задавал отцу вопросы.
Отец, прекрасно знавший историю Пруссии, рассказывал брату о каждом здании. Временами он давал волю своей фантазии и разыгрывал перед нами настоящие сценарии императорских парадов: гвардия у дворцовых ворот, император Вильгельм на лошади. А если брат возражал, что в то время уже были автомобили, то в следующее воскресенье отец пересаживал Вильгельма в сверкающий хромом «мерседес».
Однажды он даже заставил статую «старого Фрица» сойти с пьедестала и пустить коня в галоп, ругая при этом прохожих, не уступивших ему дорогу.
«„Старый Фриц“ не любит простых берлинцев», — сказал отец. — «Смотри, как он кричит на людей!»
Он поднял меня, чтобы я смог лучше разглядеть Унтерденлинден. (Я еще и сегодня вижу рассвирепевшего Гогенцоллерна, мчащегося через дворцовые ворота). Обернувшись назад, я закричал:
«Да, на пьедестале никого нет! Император поскакал во дворец!»
Отец понимающе кивнул. Мой брат Адольф, указав на памятник, спокойно сказал:
«Да вон он сидит на своей лошади. И вообще с места не двигался».
Отец взглянул на меня.
«Но я же точно видел — он проскакал через дворцовые ворота», — уверял я.
«Посмотри повнимательнее», — закричал брат. «Да вон же он, чугунный Фриц, там, наверху!»
Отец повернулся к брату. «Ты видишь императора на пьедестале, а Михаэль увидел, как он въезжал в дворцовые ворота. Каждому мир представляется таким, каким он его видит. Ты тоже видишь мир таким, каким он тебе представляется.
Если бы у всех людей был один и тот же взгляд и на мир, и на окружающих, тогда все мужчины считали бы твою маму такой красивой, как считаю я. И в таком случае шансов на успех у меня не было бы вовсе».
Он засмеялся, прижал нас к себе, и мы направились в «Борхарт», любимое кафе отца. Он заказал себе бокал белого вина и десерт для нас. Сидя за столиком, мы через окно разглядывали прохожих.
Мне ужасно хотелось спросить отца, как ему в голову взбрело назвать брата Адольфом. К моменту рождения брата имя Гитлера было уже у всех на слуху. И еще мне хотелось спросить — почему некоторое время он носил такие же, как у Гитлера, усы щеточкой? Может, отец хотел как-то приспособиться к Гитлеру? А может, ради маскировки? Какая в этом была нужда? Я вспоминаю, как однажды мы с отцом стояли у ворот нашего дома на Эльберфельдерштрассе. Мимо нас проходили двое подростков в форме «гитлерюгенда».
Они заметили нас, и один из них предложил — а хорошо бы потрясти этого маленького еврейчика. Другой, указав на отца, сказал:
«Хорошо бы и второго тоже, это наверняка его отец!»
Отец приветливо кивнул — мол, правильно, это мой сын. Оба подростка ушли, даже не извинившись.
Я никак не могу представить себе, что отец был поклонником Гитлера. Да и маскироваться ему было совсем необязательно. Конечно, ростом и статью гвардейца он не обладал, но был светловолос, голубоглаз и мог, в отличие от меня, вполне сойти за низкорослого арийца. Что же все-таки было причиной такого маскарада? Неужели таким образом он хотел выразить свое отношение к фюреру — вот, мол, смотрите, новый вид еврея, нацистский, с голубыми глазами и усами щеточкой. Я, правда, считал отца способным на такое. Однажды, когда к нему в гости пришли друзья, он, лежа на диване, долго и обстоятельно излагал свою идею насчет того, нельзя ли посредством основания какой-нибудь подотчетной организации с примерным названием НСЕМТО (национал-социалистическое еврейское международное торговое объединение) внести свой вклад в дело усмирения гитлеровского бешенства и в конечном счете даже принять активное участие в образовании национал-социалистического государства. В ответ на гомерический хохот друзей отец лишь покачал головой и поклялся, что он хочет только социализма. И ничего, если этот социализм будет с националистическим душком — он тоже согласен. С международными связями можно сделать национал-социализм вполне пригодным для приличного общества. А с помощью партийных денег можно будет, пожалуй, создать на территории Палестины новые киббуцы.