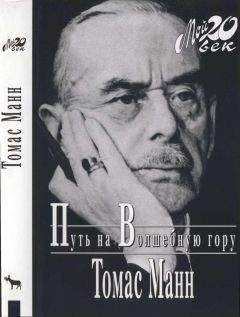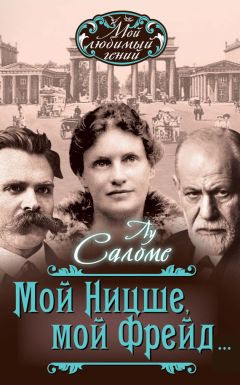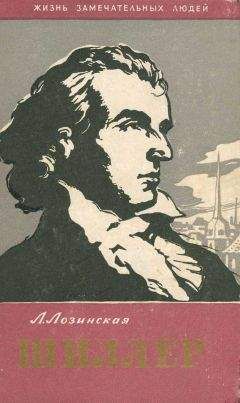И что же это за мир? Это мир политики, мир демократии; и то, что я вынужден был подняться против него; то, что в этой войне я вынужден был стать на сторону Германии, а не на сторону ее врагов, как это сделал литератор цивилизации, — эта необходимость очевидна всем, кто не слеп; она естественно вытекает из всего того, что я писал в течение предшествующих мирных 15 лет. Впрочем, ощущение, будто я с моей верой в то, что вопросы человеческого бытия никогда и нигде не будут решены политически, но только духовно — морально, совершенно одинок среди интеллектуаловнемцев, не более чем видимость, покоящаяся на заблуждении. Легитимность такого образа мыслей, такого образа чувств подтверждена многими благородными мыслителями, которые нынче остались немцами, каковыми и были всегда. Виланд[67] был национален в высшем и духовнейшем смысле, когда во всех беседах со своими политическими друзьями не уставал повторять один и тот же рефрен: дела человечества пойдут на лад тогда, когда реформы будут начинаться не с форм правления и не с конституций, а с отдельного человека. Он был национален и тогда, когда разразился следующей негодующей тирадой: «Какой немец, в чьей груди еще осталась хоть искра национального чувства, сможет перенести мысль о том, что чужой народ изготовился с оружием в руках вытеснить наши домашние и гражданские установления разрушительными, политическими суевериями, и со словами о человечности, правах человека, свободе, равенстве, всемирном гражданстве и всеобщем братстве предложить нам отвратительный выбор: или мы становимся предателями законов нашего отечества, наших легитимных правителей, нас самих и наших детей, или позволяем обращаться с собой как с развращенными и подлыми рабами?»[68] Виланд знал, что он не одинок, что он не предает дух и мысль, когда завершал цикл своих статей о французской революции такими словами: «Я заканчиваю свое земное существование, будучи верным всем тем принципам, которые я публично отстаивал в течение 35 лет; в течение этих 35 лет я, как писатель, способствовал всеобщему благу человечества; и именно поэтому я буду бороться, коль скоро это окажется необходимо, против всех неправедных, искаженных, опьяняющих представлений о свободе и равенстве, против всех направленных, а также (наверное, против воли прекраснодушных, так называемых демократов) ведущих к анархии, бунту, насильственному ниспровержению гражданского порядка и установлению новой политической религии западно — франкских демагогов максим, рассуждений и идей; и я не сомневаюсь, что в этом меня поддержит всякий благородный немецкий патриот, друг народа и гражданин мира»[69].
В детстве у меня было полно чудесных игрушек, если вы только позволите об этом рассказать: был целый магазин с прилавком и весами, он был изумительно хорош, особенно пока был новый, его ящики ломились от бакалейных товаров, а амбар был точно такой же, как у моего отца — там, внизу, у Траве, со всем, что полагается, вплоть до мешков и тюков, которые с помощью лебедки, установленной сзади, поднимались наверх. Было у меня полное рыцарское снаряжение из картона, раскрашенного под железо, — шлем с забралом, копье для турниров, щит, — все это так и стоит у меня перед глазами. Но вся эта романтика казалась несолидной в сравнении с настоящим и до малейшей детали соответствовавшим уставу голубым гусарским обмундированием со всеми его принадлежностями, которые специально для меня шил портной. Впрочем, этот военный маскарад не доставлял мне большого удовольствия. Даже игра в оловянные солдатики не очень радовала меня, хотя солдатики были у меня великолепные, почти с палец величиною — конные, умевшие спешиваться; меня лишь раздражал толстый стержень, торчащий между их искривленными ногами.
Зато я нежно любил свою лошадку — качалку, и мне очень хотелось бы еще когда‑нибудь обнять ее за шею. Моего коня звали Ахиллом, я сам окрестил его этим именем, и, когда мне его подарили, он мне показался живым, как в прекрасном сне. На нем были изящное седло и уздечка, шерстка у него была совсем настоящая — по — детски шершавая шерстка пони рыжей масти: он и в самом деле был рыжим пони, но только чучелом, и у него были самые доверчивые стеклянные глаза на свете. Я любил его совсем не как рыцарь, это я хорошо помню; я просто был привязан к нему, как к живому существу, я любил в нем все — его шерсть, его подковы и ноздри, любил так же, как собак из фарфора, папье — маше и бисквита, которыми меня в детстве одаривали в большом количестве. Это были мопсы, таксы, охотничьи псы, мне нравилось украшать их атласными чепраками и лоскутами из сокровищ моих сестер.
И при всем этом я, несомненно, обязан лучшими часами моего детства нашему кукольному театру, который до меня принадлежал моему старшему брату Генриху; он мечтал стать художником и написал для театра много красивых декораций. То, как я руководил этим театральным заведением, мною подробно описано в одной из первых моих новелл («Паяц»). Кроме того, в жизни Ганно Будденброка кукольный театр тоже сыграл свою роль. Я без ума любил эту игру, и мысль о том, что когда‑нибудь я вырасту из нее, казалась мне невозможной. Я заранее радовался тому, что, когда у меня переменится голос, я смогу использовать свой бас в тех необыкновенных музыкальных драмах, которые я ставил при закрытых дверях. Меня очень возмущали объяснения брата, доказывавшего мне, как смешно будет выглядеть, если я, солидный мужчина с басом, усядусь перед кукольным театром.
Вот все о моих игрушках. Но я могу сказать, что не очень нуждался в них — про себя я был уверен в силе и независимости моей фантазии, которой никто не мог у меня отнять. Например, я просыпался утром, уверенный, что сегодня я — восемнадцатилетний принц по имени Карл. Я облачался в снисходительнолюбезное величие и ходил гордый и счастливый, наслаждаясь тайной своего достоинства. И во время занятий, прогулок или чтения сказок я ни на секунду не прерывал своей игры, в этом была ее выгода. Впрочем, я не всегда бывал принцем, мои роли часто менялись.
Была у меня еще игра в богов — развлечение высшего порядка. Уже по тому имени, которое я дал своему коню, читатель может догадаться о моем раннем увлечении «Илиадой». Действительно, Гомер и Вергилий (я им очень благодарен за это) мне заменили все рассказы об индейцах, которыми я совершенно не интересовался. В одной из книг, по которой в свое время моя мать изучала мифологию (на ее обложке изображена Афина Паллада, и она была из тех, которые детям разрешалось брать в книжном шкафу), содержались захватывающие отрывки из произведений этих двух поэтов на немецком языке. Я их знал целыми страницами наизусть (особенное впечатление на меня производил «острый серп», который Зевс занес над Тифоном — я любил повторять это место), и я рано чувствовал себя в Трое, Итаке и на Олимпе как дома, совсем как мои однолетки — в стране Кожаного чулка. И все, что я так жадно вбирал в себя, я потом старался изображать. Прыгая по комнате, я был Гермесом в сандалиях с бумажными крылышками или, представляя Гелиоса, балансировал блестящей, сверкавшей золотыми лучами короной на умащенной амброзией голове, я безжалостно по три раза волочил вокруг стен Илиона свою сестру, которая — худо ли, хорошо ли — исполняла роль Гектора. Изображая Зевса, я стоял на лакированном красном столике, служившем мне крепостью богов, и тщетно титаны громоздили Пелион на Оссу — так страшно сверкал я красными вожжами, к тому же еще украшенными колокольчиками…