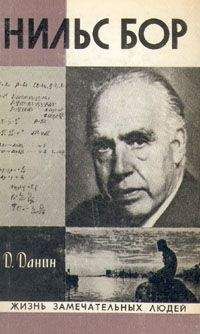В конце первой полосы той необычной рукописи появилась фраза, написанная с очевидным волненьем:
«Кажется, все это… надежно указывает на возможность объяснения Периодического закона химических свойств элементов… с помощью рассматриваемой атомной модели».
Чувствуется: его доверие к планетарному атому стало еще глубже, чем было. И все же пока оно оставалось только доверием — производным веры. Он не заблуждался: из устойчивости его электронных колец вовсе еще не следовала устойчивость атомных размеров. И этим разочаровывающим утверждением он начал вторую полосу рукописи.
Беда была в том, что законы ньютоновской механики позволяли электронному кольцу вращаться на любом расстоянии от ядра. Разве нельзя, крутя на веревке камень, произвольно укорачивать или удлинять веревку? Он лишь станет вращаться то с большей, то с меньшей частотой. Так и с кольцами, придуманными Бором для спасения планетарного атома: от изменения их радиуса изменялась бы лишь частота облета электронов вокруг ядра. А механика Ньютона не запрещала частоте обращения планет вокруг солнца быть какой угодно. И радиус их орбит мог быть каким угодно. Оттого и сколь угодно малым — даже неотличимым от размеров ядра — мог быть и размер атомов.
Бор вынужден был умозаключить:
«Кажется, в законах механики нет ничего, что позволяло бы предпочесть какие-нибудь значения радиуса и частоты вращения всем остальным».
Это было маленькое открытие. Но безрадостное: открытие как закрытие. Признавалось, что у классической механики нет способов справиться с устойчивой величиною атомов…
Однако придумала же природа какой-то механизм сохранения определенных атомных размеров, чтобы мир мог существовать! Оставалось предположить, что этот механизм основан не на классических правилах.
В духе тогдашних размышлений молодого Бора рискованное решение напрашивалось сразу. Надо было лишить электроны в кольцах классического права вращаться с любой частотой. Вот когда бы для каждой энергии — одна-единственная частота, а остальные запретны! Тогда электроны принуждены были бы двигаться по орбитам на строго определенных расстояниях от ядра.
Без подробностей: надо было взять да и провозгласить от имени природы существование в микромире неклассической закономерности. Должен ли был испытать смущение манчестерский затворник, когда подвергся такому искушению? Но могла ли не смутить его мысль, что теперь, вращая камень с неизменной энергией, уже нельзя было бы ни укорачивать, ни удлинять веревку: новый закон превращал бы ее в стержень. И танцовщица на льду, изображая живой волчок, тщетно пыталась бы раскидывать или сводить руки, чтобы под аплодисменты зрителей наглядно менять частоту своего верчения на месте: теперь уж ей это никак не могло бы удаться…
Антифизический вздор? Но что, если именно такой ценой обеспечивается устойчивость атомов?!
Как бы то ни было, но предложенную им закономерность Бор осмотрительно назвал гипотезой — не громче. И записал ее сначала чисто словесно — без математики. И добавил без всякого торжества:
«…Здесь не будет сделано никаких попыток дать этой гипотезе обоснование с точки зрения механики (поскольку это представляется делом безнадежным)…»
Взамен обоснования логикой он привел оправдание пользой: «возможностью объяснить целую группу экспериментальных результатов». И перечислил их в четырех пунктах. Но одного пункта там зияюще недоставало: не говорилось ни слова об атомных спектрах. Не было ни намека на обещание расшифровать эти многоцветные ведомости по расходу электромагнитной энергии в атомах. А ведь это значило, что он еще не знал главного: как справиться с классическим требованием к электронам-планетам — непрерывно допускать свет при вращении и от потери энергии падать на ядро? Ничего конструктивного на эту тему не было в его догадках. А он писал так, точно предчувствовал неминуемый свой успех.
В подтексте его Памятной записки лежало пока еще и в самом деле только предчувствие, что есть глубокая связь между двумя «минимальностями» в природе:
— существованием минимального физического действия, меньше которого не бывает, и — существованием минимальных размеров у электронной оболочки в атоме, за пределы которых она сжаться не может.
Это была лишь смутно почувствованная связь между уже открытым квантом действия и еще не открытым принципом устойчивости атомных миров.
Как Резерфорд, он доверял своей интуиции. И ему не показалось преувеличенным предсказание, что с помощью его гипотезы,
«по-видимому, удастся подтвердить справедливость взглядов Планка и Эйнштейна на механизм излучения».
Таков уж был размах его оптимизма: от истолкования Периодического закона до подтверждения квантовой теории!
Сорок девять лет спустя, вспоминая Резерфорда, Бор написал:
«В раннюю пору моего пребывания в Манчестере, весной 1912 года, я пришел к убеждению, что строение электронного роя в резерфордовском атоме управляется квантом действия (постоянной Планка h)».
Весной?.. Но ведь только на исходе четвертого месяца своей манчестерской жизни, 22 июля, закончил он Памятную записку Резерфорду. А лишь в ней эта идея была выражена им впервые, да и то еще в неявной форме.
Проще всего счесть утверждение Бора простительной ошибкой памяти: что за важность несколько месяцев рядом с громадой сорока девяти прожитых лет! Вообще-то говоря, и впрямь что за важность? Но жизнь замечательного исследователя, сумевшего оставить нам узелки на память — череду открытий и счастливых мыслей, — представляется потомкам историей именно этих открытий и этих мыслей. Она непохожа на равномерно текущий поток. Эта жизнь как драматическое действо, где акты и антракты постоянно меняются местами: акты сокращаются до дней, антракты растягиваются на годы. Само историческое лицо, оглядываясь на прожитое, осознает эту неравномерность еще острее тех, кто приходит после. И семидесятипятилетний Бор, рассказывая о Резерфорде, полон был сознания историчности манчестерского старта в познании микромира. Потому-то, когда ему захотелось проследить до самых истоков зарождение квантовой теории атома, он заговорил не вообще о Манчестере, а уточняюще — о ранней поре своего пребывания там.
Какая же странная вышла ошибка, если это была ошибка…
Ведь она означала бы, что он забыл не просто даты (они легко забываются) и волновавшие его ожидания (они не забываются вовсе). Среди прочего он должен был бы забыть и о своей предотъездной, а никак не ранней, Памятной записке Резерфорду. Как же это-то допустить?