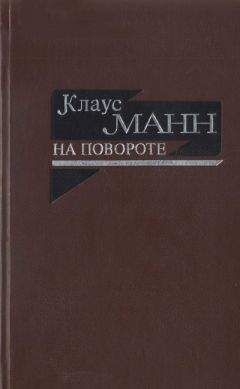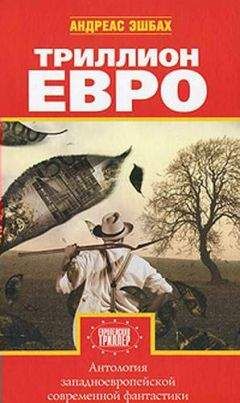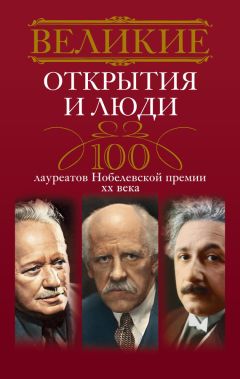Средний германский подданный едва ли что-нибудь знал об этих духовных процессах и тенденциях, которые были для него просто из области уголовщины. Подданный все еще верил в победу и в законность германского дела. Между прочим, ведь никогда невозможно полностью подавить дух истины и разума; он просачивается через открытые каналы и сообщается наконец сознанию нации, коллективной совести.
Мне не было еще полных восьми лет, когда началась война, и было ровно двенадцать, когда она закончилась. Но даже мой неопытный ум не остался не тронутым теми еще полутайными, еще подпольными течениями, которые находились в таком смущающем и возбуждающем противоречии с официальной военной идеологией. Сначала это была лишь легкая обеспокоенность, предчувствие, которое постепенно углублялось во мне и оформлялось. Медленный процесс этого интеллектуального пробуждения ускорился прочтением книги, которую мне подарила к Рождеству 1917 года наша Оффи, со своей стороны настроенная решительно пацифистски. Классический антивоенный роман Берты фон Зутнер{51} «Долой оружие», конечно, не литературный шедевр, но, как ни сентиментальны и плоски его сюжет и стиль, сильный и подлинный пафос этого глубоко пережитого призыва мощно воздействовал на мой восприимчивый дух.
Частично или преимущественно благодаря красноречивому обращению Берты фон Зутнер начал я тогда осознавать определенные фундаментальные факты и ставить определенные первичные вопросы. Могло ли это быть, что наши учителя и газеты и даже генеральный штаб старались в течение трех с половиной лет водить нас за нос? День за днем, с августа 1914 года, нас заверяли, что война, во-первых, нечто прекрасное и возвышенное, во-вторых, нечто необходимое. Австрийская пацифистка, однако, убеждала меня в гнусности организованного массового убийства и в возможности избежать его. Мне стало ясно, что катастрофу можно было предотвратить, будь наш кайзер несколько менее лихим и нахрапистым. Ответственность, следовательно, ложилась не исключительно на наших врагов, как нас столь часто заверяли. Возможно, и в другом отношении эти враги были не так плохи, как их изображала националистическая пропаганда? Возможно, в действительности они были вовсе не извергами и недочеловеками, а просто людьми?
Подобные мысли были рискованными до кощунства. Они ставили под вопрос все, что у нас до сих пор считалось аксиомой, всю систему признанных принципов и идеалов. Потому что, если люди повсюду человечны, в какой бы стране они ни жили, кто же тогда их натравливал друг на друга? Кто хотел войны и обогатился на ней? Где военные преступники?
Мы слушали путаные и волнующие истории о революции, которая якобы произошла где-то очень далеко, в России. Народ там убил своего царя и избавился от генералов. Если подобные ужасы вообще возможны, не могут ли они повториться еще где-нибудь? А что, если и немецкому народу придет в голову последовать русскому примеру и обойтись с нашим чересчур лихим кайзером точно так же, как те со своим царем?
«Революция! Грузовики, полные солдат{52}, носятся по улицам; бьют оконные стекла; Курт Эйснер{53} — премьер-министр… Все звучит так фантастично, так невероятно. И все же как-то лестно представлять себе, что позднее о нашей баварской революции люди будут говорить так же всерьез, как о Дантоне и Робеспьере. К сожалению, мы не могли посетить представление иллюзиониста Уферино. Это было разочарование. Но в остальном день рождения был прекрасным. Теперь я владелец собрания сочинений Клейста{54}, Грильпарцера{55}, Кёрнера{56} и Шамиссо{57}. Пожалуй, уже целая куча».
Это начальные строки дневника, который я вел с 1918 по 1921 год с примечательной добросовестностью. Красивая книжица в кожаном переплете была преподнесена мне 9 ноября 1919 года в качестве подарка на день рождения. (9 ноября, собственно, день рождения Эрики, но на протяжении всего нашего детства мы отмечали наши дни рождения вместе, как близнецы. На самом деле я родился на один год и девять дней позже моей сестры.)
Далее запись от 11 ноября гласит следующее: «Перемирие подписано. Наконец мир! Но что теперь? Мы мчимся навстречу катастрофе. Школа снова началась. Наш учитель ужасно взбешен, оттого что было так шумно и оттого, что Германия должна заключать мир со своими подлыми врагами. Вчера вечером Милейн читала нам очень смешную историю Гоголя. Я прочел трагедию „Искупление“ Теодора Кёрнера. Жалкая вещица».
Произошло удивительное. Наш кайзер под покровом ночи бежал через границу в Голландию. И великий Людендорф и другие герои также смылись. Все было очень неожиданно и нелегко понять. Германия была разбита — и все-таки снова нет. Наш учитель сказал, что все дело лишь в «ударе ножом», за который несут ответственность евреи и спартаковцы{58}. Они нанесли нашему кайзеру удар в спину как раз тогда, когда все складывалось наилучшим образом и мы, считай, имели победу в кармане. Для учителя германское поражение значило столь же мало, сколь немецкая республика. И она тоже была лишь еврейско-большевистским трюком, сатанински задуманным, чтобы окончательно обратить отечество в руины…
С миром было что-то не в порядке, никто, казалось, ему не радовался, люди выглядели еще более раздосадованными, чем во время войны. Да и взбитые сливки, долгожданный символ мира, все не появлялись. Еда зимой 1918–1919 годов была по меньшей мере так же плоха, как в последние военные годы.
И почему все еще так много стреляли? Перед перемирием воевали где-то далеко; сейчас, однако, выстрелы раздавались угрожающе близко.
21 февраля 1919 года прямо за углом нашей школы был застрелен баварский премьер-министр Курт Эйснер. Мои дневниковые записи, касающиеся этого инцидента, отличаются несколько беспомощным пафосом. Там говорится, что я проливал по убитому «горькие слезы», — утверждение, должно быть, несколько преувеличенное, однако едва ли так уж взятое с потолка, как это предполагали мои. Уже не помню теперь, как получилось, что именно эта запись стала известной в семейном кругу (я по большей части прятал свой дневник), но припоминаю, что из-за «горьких слез» меня много дразнили. Что меня побудило к этому риторически-стилизованному излиянию, так это, пожалуй, не столько мое горе по поводу смерти Эйснера, сколько мое отвращение к цинизму, с которым мюнхенские филистеры, включая моих учителей и соучеников, приветствовали известие о смерти. Премьер-министр, елейный интеллигент в фетровой шляпе и с бородой Христа, не был популярен; радовались избавлению от «чужеродного» преобразователя мира и друга человечества. Убийцу, кавалера из графского дома Арко{59}, массы встречали как героя, с ликованием, тогда как жертве поклонились только левые радикалы. Один из друзей Эйснера, Генрих Манн, закончил свою надгробную речь замечанием, что покойный заслуживает почетного имени «литератора цивилизации».