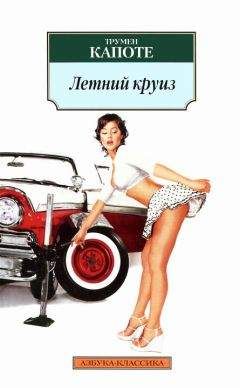— Когда бьет час, происходят интереснейшие события, — объяснила экскурсовод. — Павлин распускает хвост, петух кукарекает, филин моргает, а белка грызет орех.
Адамов хмыкнул.
— Мне начхать, что она делает. Дурь сплошная.
Мисс Райан устроила ему нагоняй. Почему, хотела бы она знать, он так относится к “продукту творческого воображения”? Адамов пожал плечами.
— Что тут творческого? Куча работяг слепнет, чтобы миледи смотрела, как павлин распускает хвост. Гляньте на эти листья. Сколько труда, подумать страшно! И все ради ерунды. Бесполезной дряни. Ты что это, малыш? — Ибо мисс Райан начала что-то записывать в блокнот. — Ты что, записываешь все мои глупости?
Пораженная, мисс Райан объяснила, что записывает новое впечатление от игрушки.
— М-м, — сказал он голосом, далеко не таким добродушным, как его улыбка. — Думаешь, я кретин, да? Ладно, записывай. Я тебе скажу, почему мне это не нравится: потому что я сгнию, а этот павлин все будет хвост распускать. Все музеи таковы. Напоминания о смерти. О смерти, — повторил он с нервным смешком, перешедшим в безрадостный гогот.
К павлину подошла куча солдат из другой экскурсии. Тут как раз стали бить часы, и солдаты, бритоголовые деревенские парни в унылых форменных штанах, провисавших на заду, как пеленки, оказались перед двойным волшебством: они пялились на иностранцев и смотрели, как в бледном свете Зимнего дворца мигают золотые глаза филина и светятся бронзовые перья фазана. Американцы и солдаты теснились поближе к часам, послушать пение петуха. Человек и искусство, на мгновение вместе, живые, неподвластные старухе Смерти…
Был Сочельник. Переводчики из Министерства культуры, под руководством Савченко, собственноручно установили в асторийской столовой елку и украсили ее самодельными открытками и паутинками золотого дождя. Актеры, размякшие по случаю четвертого совместного Рождества, накупили друг другу тонны подарков: елку опоясывал двадцатифутовый ковер пестрой ленточно-целлофановой неразберихи. Подарки предстояло открыть ровно в полночь. Но полночь уже давно пробила, а мисс Райан у себя в комнате все еще заворачивала пакеты и рылась в чемоданах, выискивая безделушки взамен подарков, которые не позаботилась купить.
— Может, подарить кому-нибудь из детишек кролика? — сказала она. Речь шла о резиновом кролике, которого ей передал через меня Степан Орлов. Кролик уютно устроился у нее на постели среди подушек. Она чернилами навела ему усы, а на боку написала печатными буквами: “Степан-кролик”.
— Нет все-таки, — решила она. — Подарю — так никто в жизни не поверит, что я подцепила русского ухажера. Вернее, чуть не подцепила.
Орлов больше не звонил.
C моей помощью мисс Райан отнесла подарки в столовую, как раз к окончанию раздачи даров. Ради праздника детям разрешили не ложиться, и теперь они, как самум, носились по обрывкам оберточной бумаги, прижимая к груди новых кукол и паля газировкой из водяных пистолетов. Взрослые танцевали под звуки русского джаз-банда, доносившиеся из соседнего зала, где был ресторан. Мимо пронеслась в танце миссис Брин, с обрывком серпантина на шее.
— Дивно, правда? — сказала она. — Вы ведь рады? Все-таки не каждое Рождество встречаешь в Ленинграде!
Официантки — студентки английского отделения, добровольно вызвавшиеся обслуживать сегодня американскую труппу, — скромно отказывались танцевать.
— Да плюнь, киска, — воззвал кто-то к одной из них, — давай возьмем и расплавим этот их занавес.
Водка, пособница праздничной атмосферы, постепенно растопила сдержанность представителей Министерства культуры. Каждый из них получил от труппы подарки, и мисс Лидия, которой досталась пудреница, целовала всех без разбора.
— Как мило, как любезно, — говорила она, неустанно созерцая в зеркальце свое одутловатое лицо.
Даже угрюмый Савченко, холодный как лед Санта-Клаус, или Дед Мороз, как его называют в России, казалось, готов был забыть о своем достоинстве, — во всяком случае не протестовал, когда к нему на колени плюхнулась юная хористка и стала целовать, приговаривая:
— Ну что ты глядишь сварливым старым медведем? Ты же просто душка, вот ты кто, мистер Савченко!
Брин тоже нашел слова симпатии для начальника из Министерства культуры.
— Выпьем за человека, которого мы должны благодарить за прекрасный праздник, — сказал он, воздев к небу стопку водки, — за нашего лучшего друга, Николая Савченко.
На что Савченко, утерев с губ помаду, ответил тостом:
— За свободный культурный обмен между нашими странами. Когда говорят пушки, музы молчат, — в сотый раз процитировал он свой любимый афоризм. — Когда молчат пушки, музы слышны.
Радиочеловек из Москвы “Джо” Адамов деловито записывал моменты праздника на портативный магнитофон. Восьмилетний Дэви Бей, которому было предложено высказаться, произнес в адамовский микрофон:
— Здравствуйте все, с Рождеством вас. Папа хочет, чтобы я шел ложиться, но нам здорово весело, и я не пойду. А еще мне подарили кораблик и пистолет, но вообще-то я хотел самолет и не столько одежек. Здесь всем ребятам понравится, приезжайте с нами играть! У нас есть жвачка, и я знаю хорошие места для пряток.
Адамов записал также “Тихую ночь, святую ночь”, которую актеры, собравшись вокруг елки, спели на такой громкости, что заглушили “умпа-умпа” оркестра из соседнего зала. Актерам подпевали Айра Вольферт с женой. Вольферты, у которых взрослые дети, заказали телефонный разговор с Америкой.
— Сегодня вечером все наши дети соберутся вместе, а завтра разъедутся кто куда, — сказала миссис Вольферт, когда псалом был допет. — Ох, Айра, — она сжала руку мужа, — мне никаких подарков не нужно, лишь бы разговор состоялся.
Разговор не состоялся. Они прождали до двух часов ночи и пошли спать.
После двух рождественская вечеринка постепенно просочилась в соседний зал, “ночной клуб” Астории, которому по субботам, в единственный день, когда посетителей там больше, чем обслуживающего персонала, разрешается работать после полуночи. Советская манера сажать вместе незнакомых людей не способствует оживленной беседе, и в громадном, мрачном зале, набитом сливками ленинградского общества, было неестественно тихо. Считаные единицы, главным образом молодые офицеры, танцевали под чинную музыку со своими девушками. Остальные — актеры, режиссеры, художники, группа китайских военных, комиссары с тяжелыми подбородками и их разбухшие золотозубые жены — неподвижно сидели за столиками, ко всему безразличные, как будто их выбросило кораблекрушением на коралловый риф.