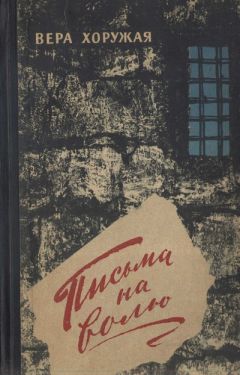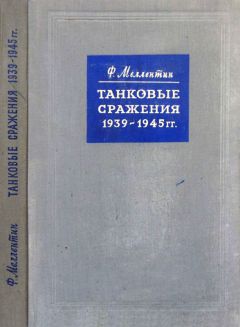Напиши и пошли немного денег моим хорошим друзьям и прекраснейшим ребятам В. и Е. Оба они, к несчастью, должны сидеть на правах уголовных и помощи вовсе ниоткуда не имеют, потому что отец В. — безземельный крестьянин, а у Е. совсем семьи нет. Сидеть же нужно В. шесть лет, а Е. — десять. Пошли так же «Капитал», «Эмпириокритицизм» и, если хочешь, еще две-три книжки. При всем своем желании ты себе не вообразишь и сотой доли той радости, какую это принесет ребятам. Если бы ты только знал, что такое тюремная радость…
14 апреля 1929 г.
Товарищу С.
…Много раз спрашивала тебя, что с В. Теперь я уже знаю. Тот день, когда я узнала, был для меня одним из самых горьких дней в тюрьме. Не буду об этом писать…
…Посмотри в окно: по голубой шири реки плывут сверкающие белоснежные льдины, стремясь вперед без удержу. Хорошо! Идем к окну, будем долго смотреть на реку.
…Когда же ты напишешь? Ну, когда?
Без даты
Ему же.
…Тебе показалось по прошлому письму, что я унываю? Ха-ха-ха, какой черт уныние — я была просто зла на вас, что вы не пишете, а это особенно чувствуется в этой дыре, куда посылают, чтобы человек забыл, что существует мир. А я не только не забываю, но все больше чувствую себя его активной частичкой.
Представь себе, что вся моя жизнь, все годы, все дни — на свободе, в тюрьме — везде и всегда радостны. У меня не иногда бывают радости, а наоборот — иногда бывают печали. А сейчас вот — никаких угнетенных настроений и в помине нет. Небо голубое, и светит яркое, горячее солнце. Тюрьма — ерунда! Она не достигает цели, но делает чудеса в укреплении большевизма.
Мне хорошо, очень хорошо. Я не знаю, что такое скука, зато хорошо знаю, что такое радость и злоба. У-у-у! Как иногда скрежещу зубами… Ну, да это неизбежно, но тотчас же покрывается радостью. Мысли и мечты о будущем прямо ослепляют. Но ведь и настоящее по-своему прекрасно. Вот живу и так люблю жизнь, как, кажется, никогда еще не любила.
Как безумно хочется вас видеть хотя бы одним глазом. Но ведь это будет, будет. Придет время, когда мы снова соберемся. Я мечтаю о том, как мы встретимся. Уже сияю от радости — вижу вас всех, и вдруг предательская мысль: а ведь все вы будете уже с усами и бородатыми, старые, некомсомольцы. О, какой ужас! Душу охватывает глупая неутомимая боль, потому что я вас никогда, никогда больше не увижу комсомольцами, такими, какими помню и люблю. Глупо это, а все-таки больно. Ну ладно, покажитесь хоть бородатыми. А все-таки я вас всех увижу!
5 июня 1929 г.
Ему же.
Что тебе написать на этом клочке самое важное? Поделюсь моей огромной радостью: получила со свободы письмо от товарища, который только что вышел из тюрьмы после десятилетнего заключения[44]. Хорошо, правда? Ой, только ли хорошо? Представить себе не могу его на свободе. Вспомнила, с какой болью и злобой писала тебе однажды о товарке, которая чуть успела выйти, как опять села. Ох, сколько еще таких случаев прибавило время. Тут тебе седой старик — «патриарх», разбитый болезнью — четыре года тюрьмы, три месяца свободы, опять тюрьма; тут тебе огневой парень; тут и придавленная чахоткой, но сверкающая глазами девушка; тут и наша матуля Катя[45] (с тридцатилетним производственным стажем и такой же дочкой), которая говорит: «Ну что ж, получила отпуск на поправку, хоть и бесплатный — и то хорошо. А теперь будем ждать следующего, значит, через пять лет».
…Уже несколько дней почти не занимаюсь. У нас огромное событие: приехали новые, привезли с собой шестьдесят лет приговора на шесть человек, новости, волну оживления.
Продуктов нам не посылай, потому что нельзя — надо у самого министра получить разрешение.
Тогда же
Подруге Р. Кляшториной.
У нас столько событий, что совсем нет тюремной кладбищенской тишины. Недавно было бурное Первое мая, с пением, криками, побоями, демонстрацией перед тюрьмой. Было столько торжества и радости, что и теперь, когда, кроме побоев, на нас посыпались разные наказания, мы сияем и не думаем сдаваться, на удар отвечаем ударом.
Опять были аресты, опять к нам пришли новые — синие от побоев, еле сдерживающие стоны. Но ведь у нас это не новость, мы к этому привыкли, это работы не останавливает. Про нас уже, наверное, можно сказать, что мы прошли «через огонь и воду и медные трубы».
Сейчас про себя много писать не смогу: волнуюсь немножко. В камере, да и во всей тюрьме далеко не спокойно. Но мне хорошо, совсем хорошо. Ведь борьба и здесь со мной, и здесь со мной то, что дороже всего на свете.
Нас очень много, все мы такие сильные, нас не устрашишь. Знаешь, столько светлых ребят у нас есть и таких прекрасных, что о каждом в отдельности надо целую книгу писать. Вот встретимся когда-нибудь все вместе, и ты сама увидишь, сколько силы и красоты в них есть. Увидимся, да, да, наверное увидимся, будет хорошо и светло.
Пиши мне обязательно много-много, но не посылай «на ветер» — это значит: не шли на тюремный адрес, а отсылай Н. Если бы ты знала, какая огромная радость — письмо в тюрьме…
Тогда же
Сестре Любови.
Вообразить себе не можешь, как глубоко меня обрадовала, взволновала твоя весть о том, что товарищи, собравшись вместе, вспомнили про меня и послали свой привет. Я не получила еще этого письма, но я счастлива, что оно было написано, послано. Какую большую радость ты мне принесла! Передай товарищам мою огромную благодарность за то, что помнят обо мне, и мой горячий сердечный привет. Очень хочу им написать.
Ты упрекаешь меня в том, что я только расспрашиваю тебя, а о себе ничего не рассказываю. Это правда, я мало пишу о своей жизни, но не только тебе. Моя жизнь такая однообразная, узкая, что на самом деле нечего о себе писать. И как же не закидывать вас всех вопросами, когда вы все бурлите в могучих волнах жизни, какой я уже так давно не видала, какая отгорожена от меня десятью стенами и интересует меня больше всего на свете! В одном письме я тебе рассказала, однако, много интересного о своем житье-бытье, но, как назло, этого письма ты не получила.
Что я делаю? Учусь, учусь и учусь. Экономика, история и философия занимают теперь видное место в моей жизни. Кроме того, разговоры, письма, воспоминания и думы, думы. Знаешь, как я люблю жизнь, как уверяю всех, что она прекрасна, так вот скажу и тебе, что наша жизнь, даже в тюрьме, полна глубокого лучезарного содержания. Хорошо жить на свете, очень хорошо, а когда мы встретимся, я приведу тебе такие факты, что скажешь: «Не только хорошо, но и чудесно!»
Теперь слушай дальше; чтобы тебе мой приговор не показался очень страшным, скажу тебе, что к нам приехали девчата с приговорами на десять, пятнадцать и двадцать лет. И знаешь что? Они не потеряли ни капельки своего смеха (я знала их и раньше), ни песен, ни жизнерадостности и веселости. Как же мне не гордиться ими, их духовной силой?