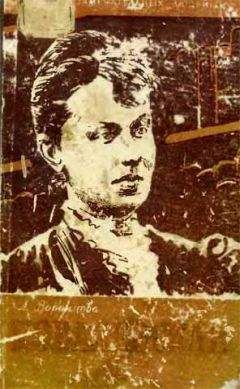В разговорах с близкими друзьями Ковалевская заявляла, что решила во что бы то ни стало не прерывать своих занятий и оставаться в Стокгольме, но у нее не хватало сил не видеться с М.; она оправдывала себя тем, что это был, во всяком случае, самый приятный друг и товарищ. Русский друг все более и более вытеснял из ее сердца искренних стокгольмских друзей, которых такая перемена глубоко огорчала. Миттаг-Леффлер, переехавший в это время в Диурсхольм, убеждал Ковалевскую нанять квартиру там же, поблизости от него, как она всегда делала, но на этот раз она заупрямилась, говоря, что не стоит, так как она чувствует, что ей недолго остается жить в Стокгольме. На свое пребывание в этом городе она смотрела теперь как на пытку, и ее все тянуло в Италию – местопребывание ее друга. Новый 1891 год Ковалевская встретила в Генуе вместе с ним, по ее желанию, на «мраморном» кладбище. Она страдала настолько сильно, что желала смерти себе или любимому ей человеку. Это было, конечно, неисцелимое горе не только для нее, но и для М. Он не мог для нее переродиться: не в его власти было зажечь в своем сердце ту страсть, которой она желала. И можно себе представить, что не одна она страдала; положение М. было также тяжелым. Поглощенная своей внутренней трагедией, Ковалевская совершенно не обращала внимания на окружающее, и путешествие ее из Генуи в Стокгольм было для нее во всех отношениях мучительным: она ежеминутно платилась за свою рассеянность и схватила дорогой сильную простуду. Несмотря на начинавшуюся болезнь, Ковалевская тотчас по приезде в Стокгольм провела целый день за работой, а на другой день, едва держась на ногах, читала лекции, которые она вообще пропускала только в самом крайнем случае. Выносливость ее доходила до того, что вечером она отправилась на ужин в обсерваторию. И в первые дни своей смертельной болезни она владела собой настолько, что сообщала друзьям план своих новых работ.
Миттаг-Леффлер говорит, что в уме Ковалевской зрела идея новой математической работы, которая должна была превзойти все сделанное ею до тех пор, а Эллен Кей утверждала, что слышала от нее содержание многих прекрасно задуманных повестей.
Болезнь ее развивалась с удивительной быстротою, она впадала в беспамятство и даже не имела возможности думать о смерти, которой всегда так страшилась; только в последний день своей жизни она сказала: мне кажется, я не вынесу этой болезни, со мной должна произойти какая-то перемена. У нее обнаружилось сильное воспаление легких. Недостаток дыхания увеличивался наследственным, хотя и весьма легким, пороком сердца. Страдания свои она переносила кротко и терпеливо, выражала благодарность окружавшим ее друзьям и боялась их беспокоить. Ее дочери предстояло в эти роковые дни отправиться на детский вечер, и мать просила своих друзей позаботиться о костюме для своей девочки. Девочку, одетую в цыганский костюм, подвели к ее постели, и она ей ласково пожелала веселиться, а через несколько часов ребенка разбудили прощаться с умирающей матерью. Ковалевская скончалась для всех неожиданно, ночью 29 января 1891 года, на руках сиделки. Смерть ее вызвала общее сожаление. Из всех стран цивилизованного мира поступали в Стокгольмский университет телеграммы, и одною из первых была телеграмма от Петербургской Академии наук. В России, разумеется, эта смерть произвела сильное впечатление на всех образованных людей. Первая панихида по Ковалевской была отслужена в здании Петербургских женских курсов; мы уже говорили, что в первые годы своего пребывания в Петербурге она очень усердно занималась устройством Высших женских курсов и некоторое время состояла членом комитета; но не одни профессора и слушательницы курсов присутствовали на этой панихиде, было также много посторонних лиц из числа друзей покойной и женщин, получивших высшее образование за границей, – Ковалевская для всех них была гордостью и радостью. Академик Имшенецкий сказал речь о научных заслугах Ковалевской.
В то время как в России почти повсеместно служили панихиды по Ковалевской, посылали венки и адреса в Стокгольм даже из таких отдаленных мест, как Тифлис, ее петербургские почитатели и почитательницы составили комиссию для установки ей памятника и занялись судьбой ее дочери. И русские, и иностранные газеты и журналы печатали в память о Ковалевской статьи, проникнутые глубоким удивлением к ее способностям. Из Стокгольма ежедневно приходили корреспонденции с описанием почестей, воздаваемых нашей соотечественнице в чужой стране. Ее погребение было обставлено необыкновенной торжественностью, на могиле ее образовалась целая насыпь цветов и сказано было много глубоко прочувствованных речей, в числе которых особенно выделялась своей задушевностью речь Миттаг-Леффлера. При погребении присутствовал также русский друг Ковалевской, ее однофамилец M. M. Ковалевский; он сказал речь на французском языке и выразил от лица всех русских благодарность Швеции и молодому Стокгольмскому университету за то, что здесь открылась возможность для Ковалевской достойным образом проявить свои познания. Он упомянул также о том, что служа Швеции и изучив математику в Германии, Ковалевская до конца оставалась русскою и любила Россию. Действительно, она часто говорила своим друзьям в Швеции, какое великое лишение для нее составляет отсутствие возможности говорить по-русски; за границей она везде чувствовала, что мысль ее заключена была в тесную клетку – от невозможности выразить ее на чужом языке.
Вскоре после смерти Ковалевской мы узнали о результатах вскрытия ее тела: легкие ее оказались совершенно пораженными острой болезнью, все другие органы найдены в таком состоянии, что обещали ей долгую жизнь. Мозг ее своим весом и присутствием в нем множества извилин вполне подтвердил общее мнение о высоком развитии ее умственных способностей.
Госпожа Эдгрен (герцогиня де Кайянелло), утешая себя в преждевременной смерти Ковалевской, говорила: «Коротка или продолжительна жизнь – это вопрос второстепенный; вся суть в том, насколько она богата содержанием – для себя и для других. А при такой точке зрения жизнь Ковалевской длиннее жизни большинства людей. Она жила ускоренной жизнью, пила полною чашей из источника счастья и из источника горя».
Все это справедливо, но с ограничением, и относится исключительно к последним семи годам жизни Ковалевской. Если бы г-жа Эдгрен знала Ковалевскую в Петербурге, то не заметила бы ничего ускоренного в ее образе жизни, – в то время, напротив, можно было сказать, что все силы ее дремали. Например, она имела тогда несравненно больше досуга заниматься литературой, чем потом в Швеции, однако же, ничего не печатала, даже ничего не писала в то время. Она вообще тогда не торопилась, как будто рассчитывала на весьма долгую жизнь. В молодости своей она много училась, работала, но, как мы видели, в то время жизнь ее была небогата внешними событиями, и всего менее можно сказать, что она жила тогда полной жизнью. Вообще, жизнь Ковалевской шла, так сказать, полосами, и под влиянием различных условий выступали то те, то другие черты ее сложной и своеобразной природы. Несмотря на это, как мы уже говорили, у нее всегда, с самых юных лет, были высшие запросы к жизни, стремления к поиску истины, и они постоянно брали перевес над всеми другими желаниями. Это было, бесспорно, ее главной чертой. Чтобы убедиться в этом, мы должны проследить всю ее жизнь, а не брать какие-нибудь отдельные ее периоды. Мы видим, что в последние три года своей жизни она сильно боролась с влечением своего сердца, и ей дорого стоили ее победы над ним. Но в это время страшной внутренней борьбы она не только продолжала работать, но оказала науке такие важные услуги, которые никогда не будут забыты. Так работать в такое время могут только очень немногие, одаренные не только творчеством, но и сильной волей. И уже один этот факт говорит нам, что, несмотря на все свои чисто женские слабости, Ковалевская была очень сильным человеком, и можно было надеяться, что, победив окончательно свою «несвоевременную» страсть, она воспрянула бы и отдалась одной науке.