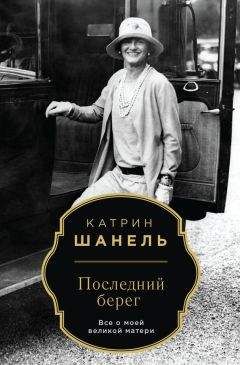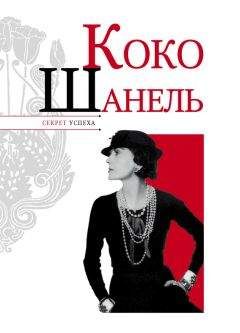Меня вернули в тюрьму, и потянулись долгие дни ожидания. Как это ни страшно признать, я свыклась с тюрьмой. Все же недаром я была психиатром. Кое-как я сладила со своим душевным состоянием, смогла взять себя в руки. Состав сокамерниц вокруг меня постепенно менялся, одних женщин высылали, других арестовывали. За два месяца заключения я стала старожилом. Я встречала новеньких, пыталась ободрить их, помочь освоиться в своем новом положении. Среди них были больные – я лечила их. Была девушка с астмой. Ее лекарство закончилось, а она не могла без него жить, да как будто и не желала бороться за жизнь, а только сидела, привалясь к ледяной стене камеры, и тяжело, со свистом дышала. Я вступила в переговоры с тюремным начальством, умоляла, требовала и даже угрожала. Обо мне в тюрьме знали, что я вернулась невредимой с допроса Дордье. Вероятно, именно это обстоятельство заставило тюремные власти собраться с силами и сделать доброе дело. Вечером мне передали в бумажном пакете лекарство для Анны, а утром ее увезли на допрос, откуда она уже не вернулась. Все мои хлопоты оказались напрасны.
Потом появилась Симона, тяжело дохаживающая свою очень позднюю беременность. Симона гордилась своим положением, гордилась аккуратным животиком, гордилась своими тремя сыновьями, старший из которых уже сам был отцом. Все трое были в Сопротивлении, их арестовали и расстреляли в лагере Роменвиль. Симона узнала об этом в тюрьме и в ту же ночь преждевременно разрешилась от бремени мертвым ребенком.
Я принимала роды, вытирала мокрый лоб Симоны, уговаривала и утешала ее, а сама вспоминала… вспоминала… Возочек, катившийся через лес, трех перепуганных девчонок и одного хмельного возницу… Луизетта родила ребенка прямо под повозкой, в траве, в кружевной тени дубов, а мы с Рене помогали ей – вернее, помогала я, а Рене только бестолково суетилась. Как мы были молоды! Как прыгали по листве солнечные зайчики! Как кричал новорожденный, а Луиза, усталая, счастливая, кутала его в свой передник! Должно быть, те дубы уже срублены, а тот голосистый мальчик убит на одной из войн. Сколько было надежд! Теперь же я держу на руках мертвого ребенка, и наши надежды точно так же мертвы. Впереди только мрак и смерть.
Потом я много читала воспоминания узников о концлагерях, и все они были похожи друг на друга. Люди, пережившие – в условно цивилизованную эпоху, в якобы цивилизованной стране – запредельный ужас неизбежной мучительной смерти, никогда не забудут того, что с ними сделали. Их согнали в желоб и превратили в стадо на бойне, движущееся навстречу гибели. Попасть в концлагерь – означало пропасть. Оттуда не возвращался никто… Или почти никто.
Смогла же Шанель выручить своего племянника?
У меня-то была надежда. Я надеялась на мать, на ее любовников, которые казались мне всесильными. Они должны были меня освободить, и Франсуа, и Рахиль, и ее детей, и даже Раймонда, который совсем не нравился мне, но вовсе не должен был умирать из-за этого. Это снова было как в детстве, как тогда, когда я мечтала за стенами обители, что приедет мать и заберет меня.
Но она не приезжала. Никто за мной не приходил. Я с каждым днем погружалась все глубже и глубже в свое отчаяние, и ни одна искра надежды даже не вспыхнула во мне, когда умирающая Симона положила мне руку на живот и шепнула:
– Бедняжечка вы моя, кто же примет вашего ребеночка?
Я не подозревала о своей беременности, потому что мои менструации и раньше были нерегулярными, а когда они прекратились в тюрьме, я не удивилась. Я слышала о таких вещах, и во всем винила стресс. Но во мне росла новая жизнь. Как это произошло? Мы никак не пытались предотвратить беременность, но я отчего-то была убеждена в своей неспособности зачать. Ведь этого не произошло раньше? Но что там было у меня «раньше», от чего во мне могла зародиться жизнь?
Я подозревала, что беременность лучше скрыть. К счастью, мой живот почти не выпирал, а бесформенная юбка и шерстяной джемпер скрывали фигуру. По ночам я прикасалась к себе, пыталась уловить движение плода. Нет, еще слишком рано. Но скоро уже, скоро…
Я заставляла себя есть и не погружаться в глубины отчаяния. Ради ребенка Франсуа. Он должен жить. Я молодая и сильная, я смогу. Я вырвусь из этого ада и увезу ребенка подальше из этого мира рабов, зависящих от капризов жалкой кучки своих безумных хозяев. Мы еще будем счастливы, мы уедем в Австралию…
Я рассказывала ребенку об Австралии, шепотом пела ему колыбельные…
Нас подняли на рассвете и выгнали во двор, как овец. Построили на брусчатке. Устроили перекличку. Женщины откликались по очереди, откликнулась и я. Меня мутило, но я знала – нельзя, чтобы меня стошнило. Нельзя выглядеть больной, слабой.
Женщин погнали в грузовики, в высокие кузова – по подложенным доскам. У меня кружилась голова, и я спокойно подумала, что не смогу сейчас пройти по этой узкой доске. Я непременно упаду. Но кто-то взял меня за локоть.
– Идемте.
Я пошла, едва переставляя ноги. Меня посадили в кабину. В отличие от остальных узниц я ехала с комфортом, я даже глядела в окно, за которым проносились предместья Парижа. Водитель молчал, я краем глаза видела его бледный профиль, темную прядь волос. Отчего он показался мне знакомым?
– Октав, – прошептала я.
Но он продолжал смотреть перед собой. Разумеется, этот молодой немец не мог носить это имя. И мой брат, мой маленький мертвый брат, не сделавший в своей жизни ни единого вдоха, но каким-то образом оставшийся жить в моей душе, не мог вести этот страшный грузовик, наполненный обреченными на смерть.
Наш путь лежал в форт де Роменвиль, где теперь располагался концлагерь. Как я уже знала, Роменвиль не был собственно лагерем, но чем-то вроде пересыльного пункта. Властвовал над этим филиалом ада некто капитан Рикенбах. Я имела честь получить у него аудиенцию в первый же день прибытия в лагерь. Он выглядел как немецкий солдафон в исполнении провинциального актера – дюжий, рыжий, с рыжими усами, рачьими глазами навыкате. От него исходил сильный запах вчерашнего перегара и сегодняшний винный дух. Смыслом и целью жизни капитана Рикенбаха было – никогда не протрезвляться. Смею надеяться, что он глушил вином угрызения совести…
– Сегодня господин Пиф-паф в хорошем настроении, – сказал кто-то за моей спиной, когда меня вели по коридору в кабинет капитана.
Тогда я удивилась – вот это угрюмое похмелье считается хорошим настроением? Но потом поняла: да, так оно и есть. В плохом настроении капитан Рикенбах размахивал револьвером, как перчаткой.
Капитан только осмотрел меня с головы до ног, потом снова уставился в бумаги. Я могла бы поручиться, что он не умеет читать.