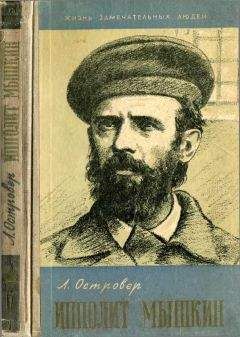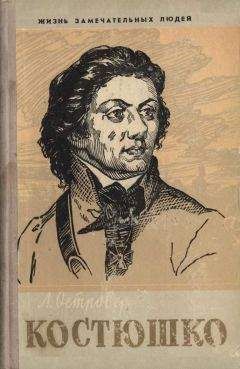Тебя, конечно, интересует вопрос: каким образом я очутился в якутской тюрьме. Но я сомневаюсь, чтобы следственная комиссия, с разрешения которой я пишу настоящее письмо, дозволила мне отвечать на этот вопрос, и потому я обойду его лучше молчанием.
По окончании следствия по преступлению, совершенному мною в Якутской области, я буду отправлен в Иркутск, но где именно будут судить меня: в Питере или в Сибири — не знаю. Постарайся подготовить маменьку, чтобы судебный приговор, который будет произведен надо мною, не произвел на нее слишком тяжелого впечатления. О настоящем же моем положении лучше до поры до времени вовсе не говорить ей; пусть лучше думает, что я еще благодушествую в какой-либо неизвестной стране…
Твой брат
И. Мышкин».
Но губернатор обманул Мышкина: письмо никуда не ушло!
20
Авдотья Терентьевна чувствовала себя несчастной не потому, что с Ипполитом приключилась беда, а потому, что не знала, какая беда и как этой беде помочь. У нее делали обыски, ее вызывали в полицию, но никто не говорил ей, что с Ипполитом. Неизвестность угнетала.
Наконец письмецо! Всего четыре слова: «Ипполит арестован», и подпись: «Таежный бродяга».
Ее Ипполит арестован? За что? Не вор же он! Не убийца! Григорий говорит: «За политику». Чепуха! Что он, Ипполит, враг себе, чтобы против царя бунтовать? Чего бы он хотел добиться бунтом? Ведь всего уже достиг: дело у него прибыльное, жена красавица, от людей ему почет. Не станет ее Ипполит рисковать добром, чтобы приобрести лихо! Тут какая-то ошибка вышла!
И Авдотья Терентьевна решила немедленно отправиться в Петербург, к самым важным генералам: она им расскажет о своем Ипполите, и они поймут, что вышла ошибка.
Авдотья Терентьевна собрала 23 рубля, все, что могла достать, и направилась в столицу. Там она заехала к Дорофеичу, дружку ее. второго мужа, тоже полковому фельдшеру, и по его совету в первый же день отправилась в III Отделение.
После томительного ожидания в приемной, когда окна уже заволакивались предзакатной серостью, к Авдотье Терентьевне подошел усатый жандарм и твердо сказал:
— Поручик ушли, пожалуйте завтра.
А завтра пришлось ждать опять, до самого вечера, когда солдат с тряпкой и метлой принялся за уборку.
— Чего ждешь-то? — обратился он к Авдотье Терентьевне.
— Генерала жду.
— Ишь, чего захотела, генерала. Ты бы сначала с господином поручиком поговорила.
— А где он, этот господин поручик?
— Ушли уже. Время, вишь, позднее. Приходи завтра и прямо к господину поручику просись.
Авдотья Терентьевна дала солдату гривенник поблагодарила его за совет и отправилась домой.
В третий раз она пришла к Цепному мосту чуть ли не на рассвете. При ней швейцар раскрыл ворота, при ней начали съезжаться служащие; она первая зашла в приемную.
Усатый жандарм — Авдотья Терентьевна уже знала, что его зовут Семеновым, — еще в фуражке и шинели, проходя через приемную, удивленно спросил:
— Зачем пожаловала?
— Генерала хочу видеть! — решительно заявила Авдотья Терентьевна.
— Кого?
— Генерала! Вот кого! И ты на меня не смотри телячьими глазами. Мой муж тоже унтер-офицер и не меньше твоего царю-батюшке служил!
В ее словах было столько злобы и какой-то угрожающей силы, что жандарм почувствовал себя неловко.
— А дело у тебя какое? — спросил он.
— Сына арестовали! Понимаешь, сына! А он ни телом, ни духом не грешен!
— Подожди.
Семенов исчез за дверью.
После долгого ожидания появился в приемной офицер:
— Это у вас сына арестовали?
— Да, моего сына арестовали.
— И что вам тут нужно?
— Нужно видеть генерала.
— Зачем?
— Чтобы объяснить ему.
— Вы можете объяснить мне.
— Нет, — твердо сказала Авдотья Терентьевна, — я объясню генералу!
Офицер поглядел на Авдотью Терентьевну сверху вниз, пожал плечами и ушел.
Опять потянулось время. Авдотья Терентьевна заглянула в комнату, где сидели офицеры. Увидев женщину, один из них крикнул:
— Семенов! Ты чего смотришь?
Семенов подошел к Авдотье Терентьевне, сказал внушительно:
— Сидите смирно.
Немного погодя вошел в приемную другой офицер:
— Вы непременно хотите видеть генерала?
— Да!
— Но вы можете мне сказать, я доложу генералу.
— Нет! — не сказала, а крикнула Авдотья Терентьевна. — Я сама доложу генералу!
До этой минуты она подавляла в себе желание кричать, требовать, но вдруг раскрылось перед Авдотьей Терентьевной, что эти лощеные офицерики издеваются над нею, над ее материнским горем, что они хотят ее спровадить, не допустить до генерала, зная, что стоит ей рассказать ему о своем Ипполите, как «ошибка» тут же разъяснится и ей вернут сына.
— Я сама доложу генералу! — повторила она с настойчивостью убежденного в своем праве человека.
И этот офицер поглядел на нее сверху вниз, и этот офицер пожал плечами и ушел.
В приемной стали скапливаться люди. Рабочий день был в разгаре. К одним выходили офицеры, других куда-то вызывали, а Авдотья Терентьевна все сидела да сидела: ее никуда не вызывали, никто к ней не подходил.
Авдотья Терентьевна была подавлена, уничтожена. Сердцем матери она верила, что от ее настойчивости зависит судьба сына — увидит генерала, поговорит с ним, и ее Ипполит спасен, но как прорваться к нему?
— Пожалуйте, госпожа Мышкина, — вдруг услыхала она шепот за своей спиной.
Авдотья Терентьевна вскочила, засуетилась и последовала за своим поводырем.
Прошли две комнаты. В третьей за огромным письменным столом сидел седой с густыми бровями генерал.
— Что вам нужно? — спросил он строго.
— Сына, моего сына арестовали.
— Арестовали, значит так нужно было.
— Но мой Ипполит не вор, не убийца и не бунтовщик против своего государя…
— Вы не знаете своего сына.
— Я, мать, не знаю своего сына? Ваше превосходительство, разрешите мне его увидеть, поговорить с ним!
— Нельзя.
— Матери нельзя увидеть свое дитя? У вас, верно, никогда не было матери!
— Поручик, проводите мадам Мышкину.
Офицер взял Авдотью Терентьевну под локоть и вывел из кабинета.
Все надежды рухнули. В сердце вскипела ненависть. Авдотья Терентьевна закричала в исступлении, доведенная издевательством и людской черствостью чуть ли не до потери рассудка:
— Будьте прокляты, прокляты! Берите меня, арестуйте, наденьте кандалы! Я должна быть с сыном! Слышите, проклятые? Пустите меня к нему! Куда вы его запрятали? Где он? — в ее крике было нечто до того хватающее за сердце, было такое нечеловеческое горе, что даже жандармы, обступившие ее, не решились притронуться к ней.