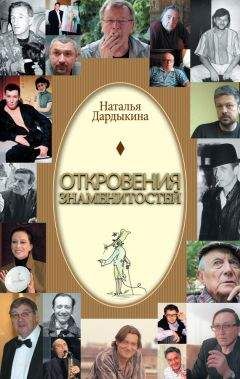— Ну, Ким Арташесович! Ну, пожалуйста! — просят его о чем-то студентки.
У всех этих счастливых людей впереди необыкновенная и недоступная для меня жизнь.
— Вы к кому, товарищ? — спросил подошедший малиновый.
— Сюда! — я ткнул пальцем наугад.
Это была дверь с табличкой: «Директор тов. Головня В. Н.». Деваться мне было некуда, и я вошел. За секретарским столом — никого не оказалось, а директорская дверь была полуоткрыта. Тогда я открыл ее пошире. Человек со строгим лицом и ровным пробором говорил по телефону. Он приглашающе кивнул, и я сел поближе.
— Да? — спросил директор.
Я молчал.
— Слушаю, — повторил он.
— Вот! — я судорожно развел руками. — Не знаю, товарищ Головня, как вас по имени и отчеству, но я уже второй год не могу поступить во ВГИК!
Головня посмотрел на меня внимательно.
— Что ж, — сказал он, — у нас это бывает, а зовут меня Владимир Николаевич.
— Но это же безобразие, Владимир Николаевич! — возмутился я. — Едешь, едешь к вам, добираешься, а у вас то эвакуация, то реорганизация!
В моем вопле, наверное, слышалось отчаяние. Головня взглянул на меня с интересом.
— И откуда же вы к нам добирались? — спросил он.
Я объяснил.
— Документы ваши покажите.
Я выложил на стол временное удостоверение. Оно стерлось по краям и распадалось на четвертушки. Четвертушки были подклеены папиросной бумагой. Потом я выложил аттестат.
— Что это? — воскликнул Головня, обнаружив на обороте золотую рыбину с надписью «Муксун в томате».
— Это мой аттестат, — пояснил я, — ведь я медалист!
— Вот, что, — сказал озадаченный Головня, — идите-ка за мной, может быть, с вами побеседуют. С моими документами в руках директор проследовал по коридору и остановился у двери, на которой не было табличек. «Ведет меня к малиновым», — подумал я. В комнате было четверо, но все в штатском. Один маленький, лобастенький сидел за столом отдельно — видимо, начальник. Головня наклонился к нему и что-то тихо сказал. Лобастенький взял мой аттестат и посмотрел на золотого муксуна в томате. Потом он молча передал аттестат присутствующим. Документ долго переходил из рук в руки. Один из четверки громко рассмеялся. Начальник взглянул на него, и тот умолк.
— Ну, что же, Виталий Вячеславович, — заговорил лобастенький, — вы, кажется, интересуетесь кино?
— С детства, — ответил я.
— А сколько вам лет? — спросил он.
— Семнадцать.
Кто-то снова рассмеялся, но под взглядом главного умолк.
— Вы могли бы нам пересказать какой-нибудь фильм?
— Могу! Хотите, «Боевой киносборник номер шесть»?
Лобастенький кивнул.
— «Боевой киносборник номер шесть»! — громко объявил я, как объявляют конферансье на концертах.
Все почему-то посмотрели на человека очень заграничного облика с благоухающей сигаретой в зубах.
— «Киносборник номер шесть»! — повторил я. — В главной роли артист Тенин!
И я принялся перечислять всех, кто значился в заглавных надписях «Боевого киносборника». Эти фамилии, от оператора с его ассистентами, до директора со всеми его администраторами, я мог бы повторить без запинки, в любое время дня и ночи.
— Часть первая! — объявил я и с патологической точностью, со скрупулезными подробностями пересказал первую часть. — Часть вторая!
— Стоп! — закричал лобастенький. — Довольно!
Шикарный человек с заморской сигаретой встал и взволнованно прошелся по комнате.
— Тебе так запомнился этот фильм? — спросил он.
— Еще бы, я из-за него чуть не утонул, — объяснил я.
Жизнь моя, уже в который раз, до смешного неправдоподобно перевернулась. Маленький лобастенький был Сергей Михайлович Эйзенштейн, а шикарный и благоухающий — Сергей Юткевич. Он как раз набирал новый режиссерский курс для своей мастерской. Руководствовался он теорией «чистого листа». Предполагалось, что ученик, напичканный сведениями по истории и теории кино, заведомо не способен создать ничего нового и оригинального. Предпочтительнее — полный невежда, родом из дикой глубинки. Я оказался идеальным претендентом! Какую-то роль во всем этом сыграл, наверное, и «Боевой киносборник». На следующее утро директор мне объявил, что я принят во ВГИК на режиссерский факультет.
— Ты, надеюсь, понимаешь, что все происшедшее — чистая случайность?
— Конечно, конечно! — радостно согласился я.
— Нет, — пока ты этого не понимаешь, — вздохнул Головня.
Общежития у ВГИКА не было, и жилье для вгиковцев было разбросано в разных частях Москвы и Подмосковья. Иностранных студентов селили поблизости — в Алексеевском студгородке. Наших размещали за городом, в Лосиноостровской. А инвалидов войны и девушек устроили в центре, во втором Зачатьевском переулке. Здесь был когда-то монастырь, основанный в память о непорочном зачатии Девы Марии. В его бывших кельях и поместили всех красавиц и будущих кинозвезд. По этому поводу было много шуток, но потом все привыкли, и девушки тоже. Зачатьевка стала самым веселым местом у вгиковцев. Она превратилась в наш клуб. Сюда по вечерам приезжали и студенты-москвичи. В бывшей трапезной стоял казенный рояль, и здесь с утра студентки по очереди разучивали гаммы, распевались, а ближе к ночи начиналась болтовня, хоровое пение и флирт по углам. На этом же рояле потом непременно спал кто-нибудь из припозднившихся гостей.
На втором этаже, над трапезной, гнездились помещеньица, никакого отношения ко ВГИКу не имевшие. Они возникли «явочным порядком» и жили в них татарские семьи — потомки дореволюционных московских дворников. Комнатки разделены были тонкими фанерными, а иногда и картонными, перегородками. Общий коридор постепенно стал общей кухней. У каждой двери гудел и коптил примус. Потом коридор стал и общей ванной. Чугунная ванна на львиных ножках была гордостью жильцов и стояла на видном месте. В ней стирали белье, купали младенцев и стариков. Ни у кого это не вызывало ни удивления, ни смущения. Одна дверь была недавно окрашена и над ней красовался трехцветный испанский флаг. Для непонятливых было написано по-русски: «Испания». Эту комнату, таким же явочным порядком, заняли студенты — дети испанских республиканцев, которых некогда вывезли в Советский Союз во время гражданской войны. Они привыкли жить в детдомах и здесь тоже поселились коммуной.
Часть вгиковцев поселили за городом — в дачных поселках Клязьма и Мамонтовка. Приближалась осень, дачи опустели и хозяева сдали комнаты и веранды вгиковской администрации. Езда в электричке плюс езда по Москве занимали ежедневно полтора-два часа, не считая позднего возвращения с дачной платформы, по темным грязным улочкам. Мы поселились в мезонине вчетвером: два художника — ростовчанин Борис Лоза и ленинградец Лелька Шварцман, «украиньский письменник» (так он себя величал) Иван Стрелец и я. Несмотря ни на что, мы были довольны. Художники были довольны потому, что всюду есть пейзажи для этюдов. Иван Стрелец потому, что хозяйка выделила ему отдельное рабочее место в курятнике. Иван писал «дуже поетичний сценарий, як у Довженки». Он бродил по курятнику из угла в угол и завывал свои стихи.