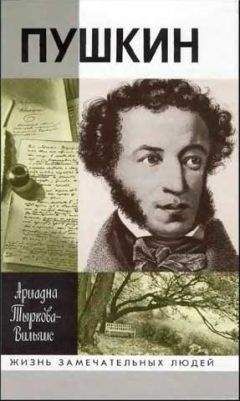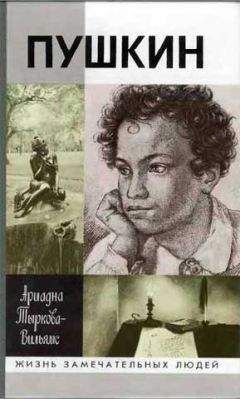Сосланный в деревню за атеизм, Пушкин с сыновней нежностью рисует образ благочестивого монаха-летописца. Он любит в нем не только свое создание, но и живое воплощение творческих и нравственных сил русского народа.
«Характер Пимена, – говорит он в заметке, которая могла быть черновиком статьи или письма к Погодину, – не есть мое изобретение. В нем я собрал черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и и вместе мудрое усердие, набожность к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия – дышат в этих драгоценных памятниках времен минувших, между коими озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих летописей как бурная жизнь Иоан[нова] изгн[анника] отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков. Сии безымянные хроники, вдохновенные в тишине монастырей…
Мне казалось, что сей характер вместе нов и знаком для русского сердца, что трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и заслужит снисходительную улыбку читателей» (1827).
Тут прямое указание, прямая линия от Китайского домика к Чудову монастырю, от придворного историографа XIX века к смиренному иноку XVI века. В критической статье об «Истории Русского Народа» Н. Полевого, напечатанной в «Литературной Газете» (1830), Пушкин дал еще более прямое указание на сходство Карамзина с Пименом. Вот что говорит Пушкин о Карамзине:
«Нравственные его размышления, своей иноческой простотой, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи».
Очень для Пушкина, для его благородной незлобивости и незлопамятности, показательно, что, создавая Пимена, которого он так нежно любил, чью душевную красоту он так радостно ощущал, он выявил в нем лучшие свойства Карамзина, от которого на самого Пушкина часто веяло холодом. После смерти историка поэт писал Вяземскому:
«К. меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить…» (10 июля 1826 г.).
К каждому из своих героев Пушкин испытывал определенное личное чувство, какое мы испытываем к живым людям. Четыре года спустя после того как «Годунов» был дописан, Пушкин в письме к H. H. Раевскому говорит:
«Я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина он только слегка отмечен. Но это, конечно, была престранная красавица. У нее только одна страсть – честолюбие, но такое сильное, бешеное, что трудно себе представить. Хлебнув царской власти, она опьяняет себя химерой, проституируется, переходит от проходимца к проходимцу – то делит ложе отвратительного еврея, то живет у казака в палатке, всегда готовая отдаться каждому, кто дает ей хоть слабую надежду на трон, уже несуществующий. Смотрите, как она мужественно переносит войну, нищету, позор; но с польским королем она сносится как венценосец с венценосцем. И какой конец у этой буйной, необыкновенной жизни. У меня для нее только одна сцена, но если Бог продлит мои дни, я к ней вернусь. Она волнует меня как страсть» (30 января 1829 г.) (писано по-французски).
В тетрадях Пушкина сохранились заметки, показывающие, что он не оставлял мысли написать драму о Марии Мнишек. У него действительно было к ней влечение, похожее на физическую влюбленность. Острота личного отношения к своим героям уживалась в нем с мудрой снисходительностью и художественным беспристрастием. Это особенно сказывается в обрисовке Годунова.
Вяземский, чуткий, строгий критик, писал:
«В трагедии есть красоты удивительные, трезвость и спокойствие. Автора почти нигде не видно».
Эта мудрая ясность 26-летнего автора, его отрешенность, уменье подняться над событиями тем показательнее, что в «Годунове» Пушкин затронул вопросы политические, еще недавно бурно волновавшие его. Он сам, в письме к Вяземскому, указал на эту особенность трагедии, обронил одно из тех, будто случайно брошенных, но знаменательных замечаний, которые служат вехами для биографа. В ответ на соображения Карамзина о характере Годунова Пушкин писал:
«Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической стороны».
В этих словах есть отблеск улыбки, но и прямая связь с суждением, высказанным в другом месте, что для драматического писателя нужны «государственные мысли историка».
Эта политическая точка поддается многим толкованиям, и ею не исчерпывается «Борис Годунов», с его широким захватом характеров, страстей, событий. Гениальные произведения всегда многогранны. Пушкин взял переходный отрезок русской истории, в центре поставил царя узурпатора и реформатора, на нем проверил те политические теории, увлечения, чувства, среди которых сам рос, которые передумал и переборол. Еще на юге по-своему подошел он к проблеме власти, отношения между народом и правительством. Ощущение государства, как живого организма, окрепло у Пушкина на юге, среди вновь завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил державный шелест российских знамен. Впервые услыхал он этот шелест отроком, в Царском Селе, когда русские полки один за другим уходили на запад, защищать русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов «общества умных» заглушили песни знаменосцев. Но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать Раевского-отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах зазвучали державные ноты.
В псковской глуши, слушая няню и певцов, приглядываясь к жизни мужиков, читая летописи, воссоздавая один из труднейших переломных моментов русской истории, Пушкин снова ощутил живую силу русской державы и нашел для нее выражение в «Годунове». С тех пор, и до конца жизни, он в мыслях не отделял себя от империи. Оттого и Петру поклонялся. В «Полтаве», в «Медном всаднике» тоже шелест державных знамен.
Не только правительство, но даже и друзья не понимали, что 26-летний поэт не колебал основ, а был могучим источником русской творческой великодержавной силы. Анненков объяснял это непонимание отчасти тем, что порывистая, страстная натура поэта сбивала многих с толку. За внешними вспышками окружающие просмотрели его внутреннюю ясность и мудрость.
«Случайные переходы в крайность и увлечение мешали современникам уразуметь правильно основной характер его настроения. Нельзя не удивляться крайне малой догадке близких ему людей относительно хода умственной его жизни. Они и теперь еще не видели произошедшей в нем перемены и продолжали считать его одним из застрельщиков в авангарде современного радикализма, когда он уже отдался исторически-критическому направлению. Продолжению сумерек вокруг действительного образа мыслей Пушкина много способствовал тот род застенчивости, который был свойственен поэту и не допускал его грубо обнаруживать себя перед людьми, не понимавшими намеков и признаков. В короткий промежуток, развиваясь необычно быстро, он переходил постепенно от бессознательной роли великосветского радикала, которую он играл в Петербурге, к отчаянному протесту личности, ничего не признающей, кроме себя, к неистовому Байронизму, которым заражен был в Кишиневе, и от него, через умеряющее действие романтизма и через изучение Шекспира, к объективности и историческому созерцанию, а, наконец, и к задачам, которые представляют для творчества и для анализирующей мысли русский старый и новый быт».