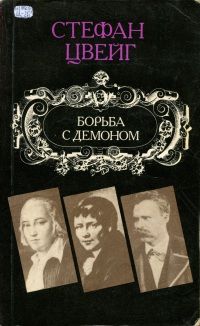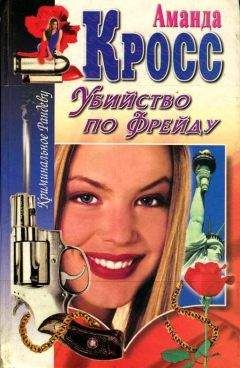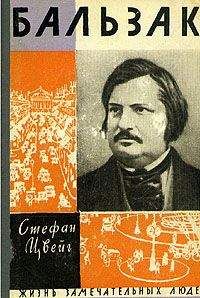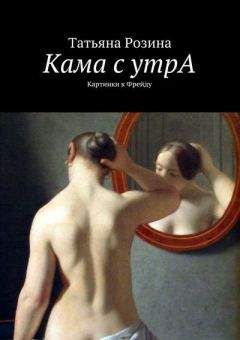Что пользы в том, что он создал великие творения? Жестокая действительность мстит тому, кто ее презирает, и мир, о котором он ничего не хочет знать, отказывается признать его. Только непонимание пожинает он там, где ожидал встретить любовь:
есть род
Суровых людей: не хочет полубога
Он слушать, и если явится им небожитель,
Безликим средь волн, иль образ примет он
смертного, —
Тот род почтить не хочет
Лик вездесущего бога.
В тридцать лет он все еще остается прихлебателем за чужим столом, домашним учителем в поношенном черном сюртуке, все еще помогают ему деньгами стареющая мать и дряхлая бабушка, все еще, как в детские годы, они вяжут ему носки и посылают беспомощному блудному сыну белье и одежду. С «неутомимым прилежанием» пытается он в Гамбурге, как некогда в Иене, прожить на скопленные гроши пусть впроголодь, но так, чтобы оставаться только поэтом (иначе жить он не может) и «заслужить внимание немецкого отечества, чтобы люди спросили, где я родился и кто моя мать». Но ничто не сбывается, ничто не содействует его стремлениям: все еще Шиллер с благожелательной снисходительностью время от времени принимает в свой альманах одно из присланных им стихотворений, чтобы уклониться от печатания остальных. И это всеобщее молчание постепенно лишает его мужества. Правда, в глубине души он сознает, что «священное остается священным, даже если люди не уделяют ему внимания», но все труднее становится сохранять веру в мир, не встречая ни в ком участия. «Наше сердце не может сохранять любовь к человечеству, если нет людей, которых оно любит». Его одиночество, его озаренное солнцем убежище постепенно остывает и леденеет. «Я все молчу и молчу, и это ложится на меня все более тяжелым бременем… которое неизбежно должно омрачить мой ум», — стонет он; а в другой раз пишет Шиллеру: «Вокруг меня — зима, замерзаю и коченею. Железным стало мое небо, каменным стал я сам». Но никто не согреет его в его одиночестве: «осталось так мало людей, еще не утративших веру в меня», — жалуется он, покорный судьбе, и постепенно сам теряет веру в себя. Бессмысленным кажется ему то, что с детских лет было для него высшей святыней и изначальным призванием его жизни: он начинает сомневаться в поэзии. Друзья далеко, голос желанной славы безмолвствует:
…Между тем мне кажется часто —
Лучше уснуть мне, чем так жить одному, без друзей,
Ждать без конца и не знать, что меж тем
говорить или делать
Нужно, и нужен ли сам в скудное время поэт.
Еще раз познает он бессилие духа в борьбе с железной действительностью, еще раз склоняет он под ярмо усталые плечи, еще раз «продается на сторону», убедившись, что невозможно «жить писательским трудом, если не хочешь быть слишком угодливым». В блаженный час осени дано ему еще раз увидеть любимую родину и в Штутгарте отпраздновать с друзьями «осенний праздник». И опять он надевает поношенный магистерский сюртук и отправляется домашним учителем в Швейцарию, в Гауптвиль, в рабство повседневности.
Пророческое сердце Гёльдерлина предчувствует заход солнца, собственные сумерки и близость гибели! Преисполненный грусти, он прощается с юностью: «Скоро, юность, угаснешь ты», — и вечерняя прохлада трепетно веет в его стихах:
Мало жил я. Но вечер мой
Холодный близок. Тени безмолвней здесь
Я стал уже, уже без песен
Дремлет в груди, содрогаясь, сердце.
Крылья сломлены, и он, живший подлинной жизнью только в парении, в поэтическом полете, уже никогда больше не найдет равновесия. Теперь он должен расплачиваться за то, что не был занят «лишь поверхностью бытия», за то, что «и в любви и в труде подвергал всю душу разрушающему действию реальности». Сияющий ореол гения гаснет над его челом, он боязливо замыкается в себе, чтобы укрыться от людей, общение с которыми причиняет ему почти физическую боль. Чем больше иссякает в нем способность владеть собою, тем ярче вспыхивает в нервах притаившийся демон. Постепенно чувствительность Гёльдерлина становится болезненной, его душевные порывы — физическими взрывами. Каждый пустяк может его вывести из себя и разбить нарочитое смирение, которым он пытается защититься, словно панцирем; чрезмерно восприимчивый и забитый, он всюду видит «оскорбления, гнет и презрение». И организм острее реагирует на всякое атмосферическое изменение приступами усталости или вспышками: то, что прежде было только «святой неудовлетворенностью» духа, становится неврастенической меланхолией, которой он отдается всем существом и которая выражается теперь в нервных припадках. Все более порывистыми становятся его манеры, все более неуравновешенны его настроения, и, некогда столь ясный, взор уже загорается беспокойным мерцанием над впалыми щеками. Неудержимо охватывает пожар все его существо; демон, мерцающий и непостоянный, мрачный дух этого пламени, приобретает все большую власть над своей жертвой; он становится «одурманивающим беспокойством», которое «все тяжелее давит ему на душу», — и вот он бросает его из одной крайности в другую: из жара в холод, из экстаза в отчаяние, от серебристого ощущения божества в самую мрачную меланхолию, из страны в страну, из города в город. Лихорадочное раздражение перебрасывается с трепещущих нервов на мысли; наконец, пламя охватывает его поэзию, беспокойство человека становится все более заметным в бессвязной речи поэта, уже неспособного остановиться на одной мысли и логически ее развить. И как в жизни он мечется из дома в дом, так в поэзии лихорадочно устремляется он от образа к образу, от идеи к идее. И этот демонический пожар не утихнет, пока не уничтожит весь внутренний мир Гёльдерлина, пока не останется ничего, кроме обугленного остова его тела, в котором демон бессилен разрушить только божественно–чуждую ему стихию — музыку, изначальный ритм, безотчетно струящийся с его уст.
Таким образом, в клинической истории Гёльдерлина нет определенного момента катастрофы, нет резкого перехода от душевного здоровья к душевной болезни. Гёльдерлин сгорает постепенно, изнутри; демоническая сила не сразу, подобно лесному пожару, пожирает его бодрствующий разум, а она палит его, как тлеющий под спудом огонь. Только одна частица его существа — божественная частица, теснее всего связанная с поэзией, — оказалась огнеупорной, как асбест: его поэтическая интуиция переживает трезвое мышление, мелодия — логику, ритм — слово: болезнь Гёльдерлина представляет, быть может, единственный клинический случай, когда творчество живет дольше, чем рассудок, и совершенные творения искусства создаются разрушенным духом — так и в природе иногда (очень редко) у дерева, пораженного молнией и обугленного до корней, еще долго цветет не затронутая пламенем вершина. Переход Гёльдерлина в патологическое состояние совершается постепенно; если у Ницше внезапно обрушивается огромное, небес духа достигшее здание, то у Гёльдерлина как бы крошатся один за другим камни фундамента, который постепенно оседает в вязкую почву бессознательного. Лишь в его поведении все яснее выступают признаки беспокойства, нервного страха, повышенная восприимчивость приводит к приступам бурного раздражения, и эти приступы повторяются все резче, промежутки между ними становятся все короче: в былые годы он мог оставаться на одном месте в продолжение целых месяцев, даже лет, прежде чем напряжение разрядится катастрофой, — теперь разрядка наступает быстрее. В то время как в Вальтерсгаузене и Франкфурте Гёльдерлин провел годы, в Гауптвиле и Бордо он выдерживает лишь несколько недель; его неприспособленность к жизни становится все безудержнее и агрессивнее. И жизнь снова бросает его, как разбитый челнок, в материнский дом — неизменную гавань всех его странствий. И в последнем отчаянии, вновь потерпев крушение, простирает он руки к тому, кто в юности направлял его судьбу: еще раз пишет он Шиллеру. Но Шиллер уже не отвечает, не желает поддержать его, и, как камень, падает он, всеми покинутый, в бездну своего рока. Еще раз отправляется он, неисправимый, в странствие, еще раз пробует «заняться воспитанием детей», но безрадостно его отплытие: обреченный смерти, он заранее прощается навсегда.