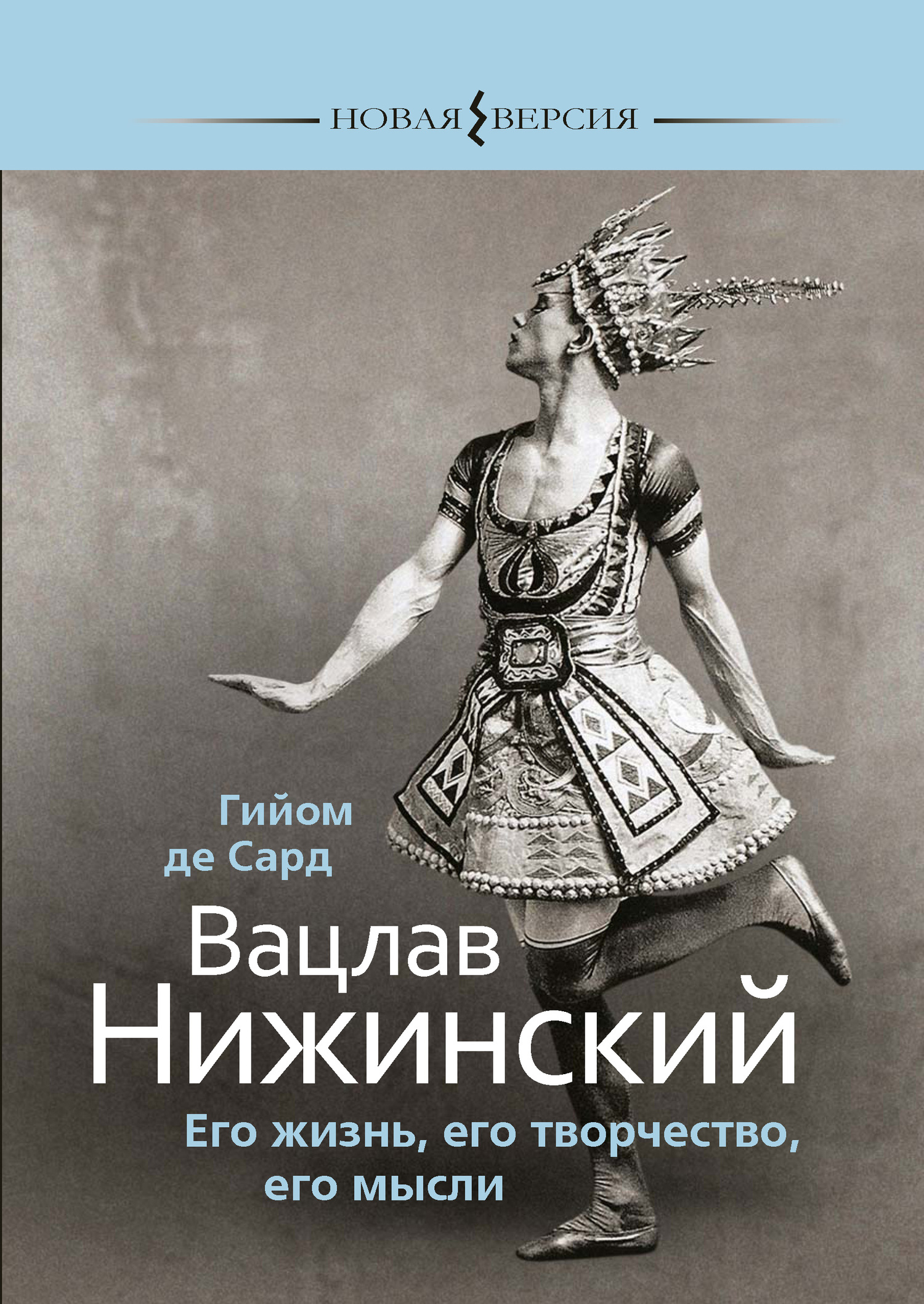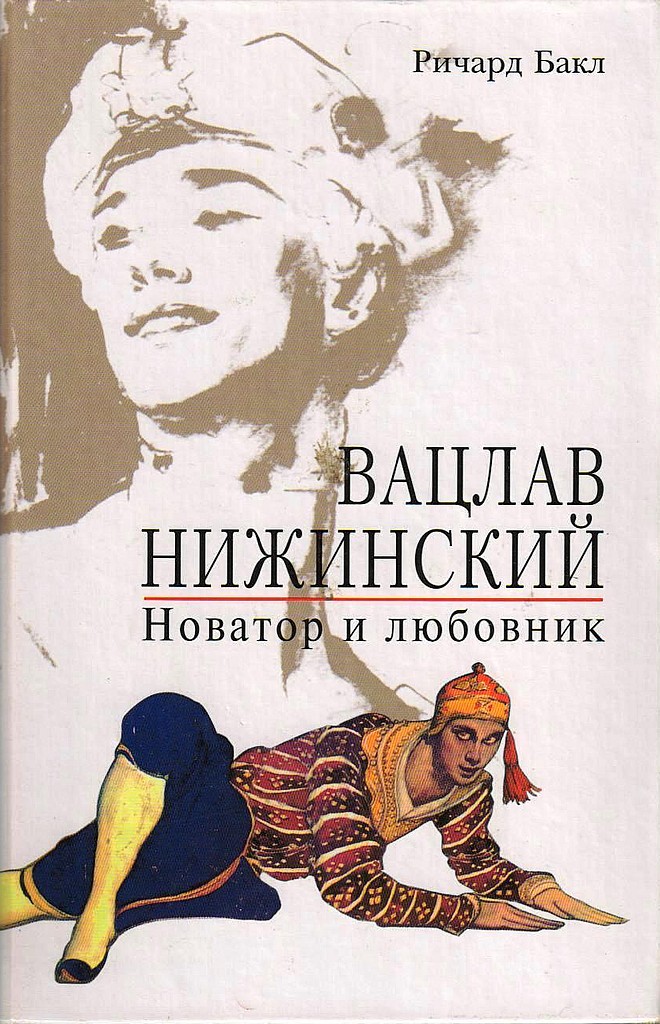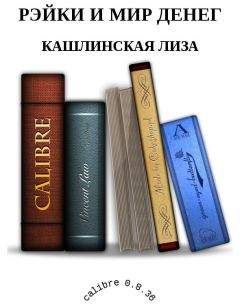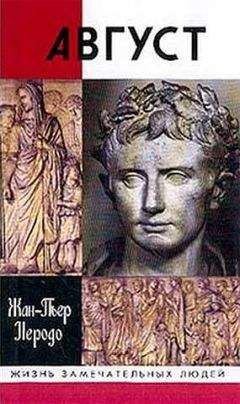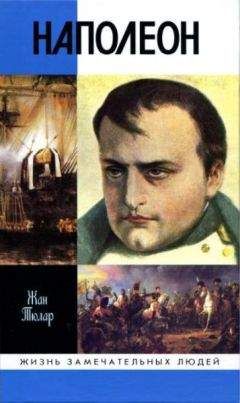Тамарой Карсавиной и Людмилой Шоллар. Но обе артистки критически относились к своим ролям и репетировали неохотно, «механически».
Во время репетиций «Игр» ему ни разу не удалось объяснить, чего он от меня хочет, рассказывала Карсавина. Невероятно трудно разучивать партию механически, слепо имитируя показанные им позы. Поскольку мне приходилось поворачивать голову в одну сторону, а руки выворачивать в другую, словно калеке от рождения, мне бы очень помогло, если бы я знала, ради чего это делается. Пребывая же в совершенном неведении относительно конечной цели, я время от времени принимала нормальную позу, а Нижинский счел, будто я намеренно не желаю ему подчиняться.
Нижинский был увлечен неестественными движениями («гротескными», говорил Бенуа), и этот интерес не объясняется просто поисками новой экспрессивности. Такие движения болезненно привлекали его, примерно так же, как и безумцы:
Я люблю сумасшедших, потому что умею говорить с ними. Когда мой брат был в сумасшедшем доме, я его любил, а он меня чувствовал. Его приятели меня любили. Мне было тогда восемнадцать лет. Я понимал жизнь сумасшедшего. Я знаю психологию сумасшедшего.
На разработку этих неестественных для нормального человека движений, которые он заставлял танцовщиков повторять, его могли вдохновить позы и жестикуляция пациентов больницы для душевнобольных на Новознаменской даче, где содержался его брат Станислав…
Когда труппа прибыла в Париж, балет еще не был закончен. Дягилева это сильно встревожило, и он потребовал завершить «Игры» немедленно. Состоялась репетиция, но этот день оказался весьма неудачным для Нижинского, и только танец вывел его из апатии.
Он стоял посреди репетиционного зала в полной растерянности, вспоминает Григорьев. Я почувствовал, что положение безнадежно, и предложил повторить то, что было уже поставлено, в надежде разбудить его воображение. К счастью, это дало желаемый результат. [137]
Но представление балета 15 мая 1913 года успеха не имело. Странность поз (они больше напоминали гольф, а не теннис), лишенное мастерства исполнение, отсутствие гармонии между движениями и музыкой, ощущение незаконченности – все это вызвало у зрителей замешательство; публика ничего не поняла. Возможно, она предположила, что «Игры» – это комическое представление? Нижинского удивила и опечалила реакция зрителей. В это время ухудшились и его отношения с Дягилевым:
Я стал открыто ненавидеть его и однажды толкнул его на улице в Париже. Я его толкнул, так как хотел ему показать, что я его не боюсь. Дягилев ударил меня палкой, потому что я хотел уйти от него. Он почувствовал, что я хочу уйти.(…) Я плакал. Дягилев меня бранил. Дягилев скрежетал зубами, а у меня на душе кошки скребли.
В двадцать четыре года Нижинский, наконец, освободился от многолетнего влияния любовника. Даже в том, что касалось искусства, он больше не полагался на Дягилева и пытался развиваться самостоятельно.
После показа «Игр» состоялась премьера «Весны священной». Это случилось через две недели, в годовщину «Послеполуденного отдыха фавна» (Дягилев, будучи суеверным, намеренно выбрал эту дату). Генеральная репетиция прошла гладко. «Исполнялся балет идеально, – писала Бронислава, – в полной гармонии между сценой и оркестром». А 29 мая 1913 года, когда поднялся занавес, опытный глаз, по словам Кокто, обнаружил бы в переполненном зале «все необходимые компоненты скандала». На премьере «Тангейзера» в Старой опере на улице Ле Пелетьер в 1861 году эстеты и щеголи (те, что аплодируют громче всех, одни из любви ко всему новому, другие из ненависти к хранителям устоев, сидящим в ложах) были изолированы на галерке, и это дало возможность консерваторам в полной мере выразить свое негодование. Дягилев оказался более прозорлив. Хороший тактик, он устроил так, что в галерее между ложами бельэтажа и большими ложами, где в те дни не было откидных сидений, стояли носители новых идей, художники, поэты, журналисты и музыканты, желавшие аплодировать Стравинскому и Нижинскому, модники же сидели совсем близко от них. Дягилев ожидал бури? Не думаю и разделяю в этом случае мнение Стравинского. [138] Зрители пришли, потому что им расписали сладость и распущенность Востока, они желали вдохнуть аромат роз и насладиться экзотическими танцами, а перед ними оказались суровый северный пейзаж и грубые крестьяне, трясущиеся от страха перед своими старейшинами. Им показали дикий хоровод, пробуждающий плодородие земли, и принесение в жертву богу Солнца девственницы. Скандала ждали, и ожидания оправдались:
Все, что написано о битве, разыгравшейся вокруг «Весны священной», не дает ни малейшего представления о том, что на самом деле произошло. Казалось, театр сотрясало землетрясение. Зрители выкрикивали оскорбления, вопили и свистели, заглушая музыку. (…)Я видела (…)маленького рассвирепевшего Мориса Равеля, похожего на бойцового петуха, и Леона-Поля Фарга, который обращал уничижительные реплики к свистящим ложам. Мне не понятно, как среди такого шума удалось дотанцевать балет, который публика 1913 года посчитала непостижимо трудным. (…) Я ничего не упустила из зрелища, происходившего как на сцене, так и за ее пределами. Стоя между двумя соседними ложами, я чувствовала себя вполне непринужденно посреди этой бури, аплодируя вместе с моими друзьями. [139]
Этот вечер оставил у Кокто похожие воспоминания:
Публика, как и следовало ожидать, немедленно встала на дыбы. В зале смеялись, улюлюкали, свистели, выли, кудахтали, лаяли, и, в конце концов, возможно, утомившись, все бы угомонились, если бы не толпа эстетов и кучка музыкантов, которые в пылу неумеренного восторга принялись оскорблять и задирать публику, сидевшую в ложах. И тогда гвалт перерос в форменное сражение. [140]
Одна элегантно одетая дама отвесила пощечину свистевшему молодому человеку, старая графиня Рене де Пуртале, со съехавшей набок диадемой, поднялась в ложе и, размахивая веером, закричала: «Мне шестьдесят лет, и впервые кто-то осмеливается насмехаться надо мной!» Бедняжка была искренна: она подумала, что этот спектакль – мистификация. Кто-то – без сомнения, для того, чтобы разжечь страсти, – назвал Равеля «грязным евреем», [141] а Карла ван Вехтена настолько захватило происходящее, что некоторое время он не ощущал, как взволнованный молодой человек, занимавший кресло за его спиной, встал и принялся ритмично колотить его по макушке. Стоял такой шум, что танцоры не слышали оркестра и должны были следовать ритму, который Нижинский, «из всех сил вопя и топая, отбивал им из-за кулис» (Кокто). Он был до того взбешен, что Стравинский удерживал его за одежду, боясь, что он выбежит на сцену и устроит скандал. Представление было на грани срыва, когда Дягилев, пытаясь утихомирить разыгравшуюся бурю, поднялся на галерку и потребовал: «Дайте же закончить спектакль!» Но это дало лишь временный эффект. Астрюк, склонившись через край ложи,