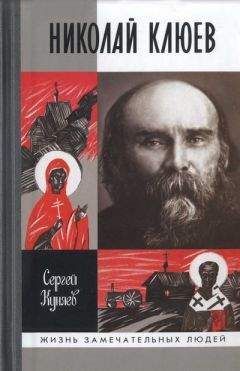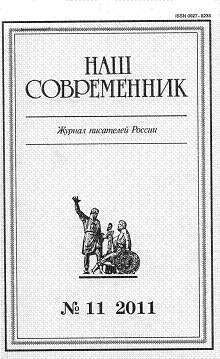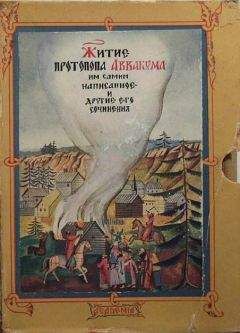«Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие… Но тонка черта: по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам…»
Доклад вызвал бурю, на Блока нападали со всех сторон. Текст «России и интеллигенции» отказался печатать Пётр Струве, редактор «Русской мысли» и будущий автор «Вех». Сергей Городецкий, близкий знакомый, автор высоко оцененной Блоком «Яри», писавший ему ранее в одном из писем: «Ведь посмотрите, на какой путь Вы становитесь! Вам предстоит или стать Буддой, Магометом, Иисусом, т. е. создать новую моральную систему (Вы это очень точно выражаете формулой: чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня» — теперь, после объяснения, писал уже в ином тоне: «Неправда (NB), что я считаю тебя больше нашей темы — России. Только я родился в ней, а ты к ней пришёл. И корень вражды не здесь… Ты мне тягостен словами о пропасти между поэтом и народом. Я её не ощущаю. Её нет. И хочу, чтобы ты ощущал также».
То, что ощущал Блок, он с ещё большей резкостью высказал 30 декабря 1908 года в том же Религиозно-философском обществе, в докладе «Стихия и культура». У него не возникает ни малейших иллюзий относительно своих «соратников».
«Сердце сторонника прогресса дышит чёрною местью на землю, на стихию, всё ещё не покрытую достаточно чёрствой корой; местью за все её трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты — с пеной у рта строят машины, двигают вперёд науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя, они видят ту же землю, — проклятую, до времени спокойную, — и смотрят на неё, как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.
Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, — „стихийные люди“. Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна лёгким, предупреждающим подземным толчкам… Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу её, о монастырях, где стоит Статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, — это „Она мчится по ржи“, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, — обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — „отдушина океана“. Земля с ними, и они с землёй, их не различить на её лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только всё на этой равнине ещё спит, а когда двинется — всё, как есть, пойдёт: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощённые Богородицы, пойдут с холмов, и озёра выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдёт вся земля».
Тут и пришёл черёд клюевского письма. Блок много цитировал его наряду с письмом некоего сектанта Д. Мережковскому и, сопоставляя сладкозвучные строки сектантского гимна с песней, приведённой Клюевым, приходил к убийственному выводу: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про „литые ножики“, и те, кто поёт про „святую любовь“, — не продадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, „земля Божья“, „земля — достояние всего народа“».
Там, где в свои права вступает жажда вселенской справедливости, жажда Тысячелетнего Царствия Божия на земле, — там не удовлетворишь её ни «экономикой», ни мнимым «единением», ни подачками с государственного или интеллигентского стола… «Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на лёгком кружевном аэроплане, высоко над землёю; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы».
Тональность статей Блока меняется, в них отчётливо становятся слышны эсхатологические интонации, предчувствие грядущего апокалипсиса нагнетает тревогу, всё усиливается трагедийность тона. И эта перемена непосредственно связана с ещё одним клюевским письмом, которое Блок получил в конце октября 1908 года, ещё до своих выступлений.
Двенадцатого сентября, в разгар работы над «Песней судьбы», он помечает в записной книжке: «Записывать просто разговоры. Клюев. Новая Драма (тишина, зеркала вод в лесу, мужичья поступь). Мечты о журнале с традициями добролюбовского „Современника“. Две интеллигенции. Дрянность „западнических“ кампаний („Весы“, мистический анархизм и т. п.). Единственный манифест и строжайшая программа. Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с „Весами“. Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение».
Связавшись с «Золотым Руном», он предлагает туда же присылаемые стихи Клюева, два из которых печатаются там в октябре. Он присылает Клюеву свою новую книгу «Земля в снегу» — и получил на неё отзыв.
Поначалу Клюев благодарит за книгу и рассыпается в зачинных оговорках: «…Я очень стесняюсь много говорить про неё. Вы ведь сами человек образованный, имеете людей, понимающих искусство и творящих прекрасное, но что по-ихнему неоспоримо хорошо, то, по-моему, быть может безобразно, и наоборот. Взгляды на красоту больно заплёвывать, обидно и горько, может, и Вам выслушивать несогласное с этими взглядами. Если я читал Вашу „Нечаянную Радость“ и, поняв её по-своему, писал Вам про неё кой-что хорошее, то из этого ещё не значит, что я верно определю и „Землю в снегу“».
Но дальше: «До „Нечаянной Радости“ я не читал лучшего, а потому прельстился ею, как полустёртой плитой, покрытой пёстрыми письменами, затейливо фигурными знаками далёкой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца и с негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости, самомнения, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: „Вот, мол, было царство, величие и слава, а стал песок попираемый!..“».
Снова идут сердечные слова о «Нечаянной Радости»: «Отдалённая, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц музыка продрогшего, бездомного актёрского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами псалтири. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятачок розовый билетик счастья, с хозяином-полумущиной, с невозмужалой похотью в глазах, с жаждой встречи с вольной девой в огненном плаще, который играет и поёт только для того, чтобы слушали…»