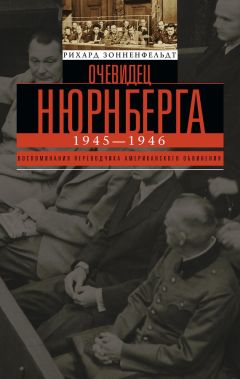При высокой температуре эту процедуру повторяли несколько раз в день. Я ненавидел это лечение и с ужасом думал о нем – с большим ужасом, чем о болезнях, от которых оно якобы помогало.
Когда в 1920-х годах меня лечили холодным полотенцем, у врачей был весьма ограниченный арсенал для борьбы с недугами. Аспирин давали ото всего, и щедро применяли морфин для облегчения боли у смертельно больных. Были таблетки от печени, касторовое масло и инсулин, только что открытое средство при диабете. Ультрафиолетовое излучение использовалось против любой хвори от туберкулеза до угревой сыпи. При воспалениях кожу мазали вонючими черными мазями с ингредиентами из далеких стран, а позднее появилась вакцина от дифтерии. Тем не менее в то время больные, даже те, которых надо было сначала вымыть, прежде чем поставить диагноз, безоговорочно верили врачам, которым требовался настоящий талант, чтобы внушить больному уверенность и помочь ему выздороветь, не давая при этом невыполнимых обещаний.
Тогда люди просто принимали то, что есть тяжелые неизлечимые болезни. Как-то раз отец предупредил родных одного пожилого пациента с воспалением легких, что тот может не дожить до утра. На следующий день он увидел гроб у них в гостиной и стал выражать соболезнования родственникам, но сын пациента ему сказал: «Нет-нет, отец еще жив, но мы нашли гроб по неплохой цене». Больной прожил еще несколько лет. Меня всегда интересовало, что же они сделали с гробом.
Чем в Гарделегене занимались люди целый день? В старину на обычные дела уходило много времени. Готовка, выпечка, уборка, покупки в магазинах и скромное садоводство и огородничество не давали домохозяйке скучать. Большинство горожан выращивало свои овощи либо во дворе за домом, либо на участке где-то в городе. Многие держали кур и кроликов. Работы всегда хватало.
И все-таки у горожан было несколько часов досуга. Мама пела в лидертафеле – в хоре. Женщины еще играли в карты, домино или маджонг. А после обеда были посиделки за чашкой кофе. Мужчины предпочитали велосипедные и мотоциклетные клубы и охоту, а разные политические партии устраивали заседания по вечерам. У большинства семей не было радио, а на то, чтобы прочитать местную газету, уходил час. Даже граммофоны были редкостью.
Закрытое от посторонних личное пространство в Гарделегене было редкостью. Дома стояли длинными рядами вплотную друг к другу, стена к стене, и спрятаться было негде, кроме как в укромном уголке в собственном доме или в кустах за городом. В некоторых домах даже стояли большие овальные зеркала на шарнирах, установленные за окнами снаружи. Можно было смотреть в зеркало из дома и наблюдать за соседями на улице, оставаясь невидимым. Эти зеркала назывались Spione, «шпионами», и потом увиденное становилось предметом пересудов. Летними вечерами люди сидели перед своими домами и болтали с соседями, разглядывая прохожих. Стоило приобрести какую-то репутацию или прозвище, как от них уже нельзя было избавиться. В городе все знали, чего ждать друг от друга.
Наша улица называлась Зандштрассе. У нас был большой двухэтажный оштукатуренный дом на углу улицы. Стенами он примыкал к домам соседей. У нас был благоустроенный чердак и глубокий погреб. Из погреба вел тайный ход, соединявшийся с другими ходами, и все они шли в городскую ратушу – остаток оборонительных сооружений, построенных во времена средневековых войн. На первом этаже располагались приемные кабинеты родителей, комнаты прислуги, которая жила с нами, и большая прихожая, где мы держали велосипеды, санки и резиновые сапоги. Жилые комнаты находились на втором этаже. За домом стоял сарай для дров и инструментов, так называемая прачечная-кухня и большая яма для мусора и золы.
По утрам мы топили печь, чтобы дом прогрелся, и когда мы выбрасывали золу, то, чтобы она не разлеталась, мы всегда сбрызгивали ее водой и уносили через дом в большую мусорную яму на заднем дворе. В Гарделегене не было регулярного вывоза мусора. Раз в несколько месяцев приезжал мусоровоз, запряженный лошадью, и мусор лопатами перебрасывали из ямы в повозку. Вокруг шныряли крупные крысы, а я пытался стрелять по ним из моего духового ружья.
Наш туалет в доме, а не во дворе считался новым словом техники. Это была страшно холодная, продуваемая всеми сквозняками кабинка. Водяной бачок, подвешенный высоко на стене, все время протекал, а свинцовые трубы потели и пропускали воду на всех стыках. Большинство гарделегенцев пользовались не туалетной бумагой, а резали газеты на квадраты и вешали их на гвоздик у туалета. Так делали наши горничные; семья же пользовалась туалетной бумагой.
Зимой, ложась спать, мы надевали толстые шерстяные пижамы. Перед тем как утром идти в школу, где мы учились пять полных дней и полдня в субботу, мы с Хельмутом умывались или, во всяком случае, должны были умываться водой из кувшина, стоявшего в фарфоровом тазу у нас на комоде. В конце умывания мы чистили зубы и сплевывали в раковину. Я так и вижу эту серую мыльную воду. Иногда по утрам вода в кувшине замерзала. У нас не было антиперспирантов – они еще не существовали, – но лето в Гарделегене было прохладнее, чем в Америке, так что мы меньше потели. Мы пользовались дегтярным мылом, пемзой и жесткой щеткой, чтобы оттереть въевшуюся грязь с ладоней.
Мы меняли белье и мылись раз в неделю. Я помню нашу молоденькую горничную Марту и как я лежал рядом с ней под кроватью, когда мы вместе играли в прятки. В середине недели я уже чувствовал запах ее тела – смесь чего-то неприятного и странно интимного. У нас была лежачая ванна, необычная для Гарделегена, и нагреватель воды на дровах, который топили и не тушили всю вторую половину дня в субботу, чтобы мы по одному могли принять ванну. Две наши горничные, которые жили вместе с нами, мылись последними. Ванная примыкала к нашей с братом комнате, и в двери между ними была замочная скважина – помните такие большие старинные ключи? В эту скважину мы с Хельмутом по очереди подглядывали за голыми горничными, пока они не додумались и не стали завешивать полотенцем наш наблюдательный пункт.
В первый понедельник месяца приходила прачка, чтобы постирать одежду в прачечной за домом. Это была крупная женщина в деревянных башмаках, она терла все на стиральной доске, а потом кипятила в больших котлах на ревущем дровяном очаге, сначала белое, потом остальное. Простыни и другие подобные вещи она пропускала через наш ручной «холодный пресс» или относила к двум женщинам на нашей улице, которые держали паровую отжимную машину. Все остальное отглаживали тяжелыми утюгами, причем пока гладили одним, другой ставили нагреваться на горящие угли. Потом у нас появилась газовая плита, где разогревались утюги и не покрывались при этом копотью. На стирку уходило несколько дней. Одежду, из которой мы вырастали, отдавали детям бедняков из нашего квартала.