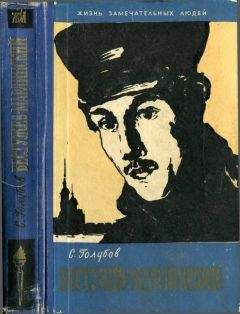Бестужева зовут обедать, на карты, завтракать, ужинать. С Вяземским дружба. Из этого человека брызжет эпиграммами, он не хочет блистать умом, но ему трудно спрятать его. Опера «Торвальдо и Дорлиска» в Итальянском театре — как трогательна ария прощания! План археологических поисков, начиная с гробницы патриарха Гермогена… У Тютчевых — знакомство с Раичем, переводчиком Виргилиевых «Георгик», — тихий человек. У И. И. Дмитриева — знакомство с В. Л. Пушкиным, дядей Александра. Нос косит вправо, а брюхо влево, шепеляв и плюется, читал из «Опасного Соседа» и первый же смеялся до слез, другие — глядя на него. Обед у Вяземского; к середине приехал Федор Толстой, багровый, с могучей гривой, красив и страшен: убил на дуэлях тринадцать душ; слышно, бросил теперь привычку исправлять фортуну за штоссом и играет чисто; рассказывал, как на Алеутских островах выбрали его королем, — человек-омут. В университете осмотр кабинетов — натуральный беден, у покойного батюшки раритетов было больше. Вечером Нечаев повез в университетский пансион, на заседание здешнего Общества любителей российской словесности. Читают все вздор. Горбатый и рябой Снегирев жарко толкует о московских древностях, глубокий знаток, но мерзок физикой и взглядами хам. Ночевать — к Нечаеву, хорош диван — еще не лег, а уж спится. На Сивцев Вражек к Толстому-американцу. За обедом пили. Нет, в Петербурге так страшно не пьют!
С Вяземским дружба — будто век знакомы. Зазвал обедать. В гамбургской газете: депутат Манюэль выведен из французской палаты за речь против короля. В Английском клубе довольны: ежели во Франции так, то в России еще сечь надо. Папуасы! Вяземский читал басню, приготовленную им для «Полярной звезды» на 1824 год в надежде, что солнце здравого смысла взойдет и цензура спрячется от лучей его, как сова в дупло. У Дениса Давыдова на Арбате, в Старо-конюшенном, разговор о военных записках Дениса. Вывеска на Арбате: Гремислав, портной из Парижа. У Марьи Ивановны Римской-Корсаковой на Страстной бал, довольно блистательный, — вся Москва пляшет. Оттуда в клуб, где попойка тоже на всю Москву. У Троицы — с записной книжкой по ризнице, по арсеналу — кольчуги, латы, гроб Сергия XIV века, гробы Годуновых, книжка исписана. В Успенском соборе латинские надписи на стенах, разобрать нельзя, ушли в камень. На Кузнецком мосту упал от ран Пожарский…
Подорожная уже взята. Опять у Вяземского, проговорили до трех часов утра. Прощай, Москва! Нечаев просит взять на память кольцо, древнее, серебряное, толстое, найденное на Куликовом поле. Прощай, Москва!
Бестужев выехал в Петербург 12 марта.
С начала 1823 года Булгарин начал выпускать добавления к «Северному архиву» под названием «Литературные листки». Коммерческая жилка Булгарина натягивалась мало-помалу и постепенно начинала издавать приятный для него звон. Радость, как и горе, редко приходит в одиночку. Министр просвещения князь Голицын рекомендовал учебным заведениям всех округов подписаться на булгаринский «Северный архив». Министр был доволен этим журналом и находил, что в нем «помещаются с хорошим выбором разные, доныне не изданные материалы, к русской истории относящиеся, и любопытнейшие географические и статистические сведения о России и других странах».
— Честь ума прибавит, — твердил Булгарин и зайцем бегал по Петербургу в поисках сотрудников и статей.
В одном из первых номеров «Литературных листков» он напечатал рассказ Бестужева «Ночь на корабле». Это была задушевно рассказанная история скорбной любви морского офицера к адмиральской дочери. Выпрашивая эту вещь у автора, Булгарин смотрел на него так жадно и так умильно, что в одном этом его воспаленном взгляде Бестужев увидел больше своей славы, чем в дружеском приеме, устроенном ему всеми московскими литераторами. Там его кормили обедами, забавляли разговорами, возили по городу и этим старались показать внимание и сочувствие к молодому, но уже известному литератору. Здесь прибегал разгоряченный погоней за счастьем трескучий человек и, бросаясь на грудь, громко требовал рассказа во имя дружбы: «Ты знаменит, дай же мне что-нибудь от своего счастья!» В этой прямолинейности Булгарина было что-то отталкивающее и притягивающее одновременно, и Бестужев помял, что отношения с Булгариным — термометр жизненной удачи их обоих.
Вяземский советовал Бестужеву из Москвы писать исторические романы. О том же самом с горячностью писал и Пушкин.
Бестужев обдумывал кое-что в этом роде, когда прекрасное служебное положение его вдруг зашаталось. Уже давно заметно было, что император перестал благоволить к генералу Бетанкуру. Строительные проекты, которые раньше так тешили царя, теперь лежали без всякого движения в комитете министров. Какие-то помещики, недовольные распоряжением Бетанкура по прокладке шоссе через их земли, находили способы доставлять свои протестации прямо на письменный стол императора. Случалось, что главноуправляющий путями сообщения по три месяца ждал приема у Александра. Правитель дел Бетанкуровой канцелярии Филипп Филиппыч Вигель, молодой человек с наружностью переодетого иезуита, ходил, тревожно поводя пронзительными черными глазами.
— Ему надо идти в отставку, — шептал он Бестужеву, встречаясь с ним в коридорах канцелярии, — величайшая мудрость в том, чтобы знать, когда надо уйти.
Вигель был прав. Но Бетанкур ездил в Нижний Новгород, ревностно возводил там гигантские ярмарочные сооружения и вообще действовал так, как будто ничего не изменилось. Эта деловитость, совершенно не способная склоняться перед обстоятельствами, и гордый дух предприимчивости раздражали царя. Характер самостоятельности, где бы Александр ни обнаруживал его, казался ему всегда чем-то вроде личного оскорбления. Судьба славного инженера была решена.
Главноуправляющим путями сообщения был назначен в июне дядя императора витебский генерал-губернатор герцог Александр Вюртембергский. Принимая ведомство, герцог грозно хмурил густые брови, толстое лицо его дрожало, как студень, и весь вид напоминал обозленного попугая.
— Господа, — сказал он своим новым подчиненным, — в вашем корпусе тьма беспорядков, хищничества: я не прежде надену ваш мундир, пока новыми поступками вы не очистите его. Сильными мерами постараюсь вас к тому понудить.
Огромная шишка на лбу герцога (в обществе его называли коротко: принц Шишка) набухла и посинела.
— Когда прикажете представить вашему высочеству гражданских чиновников? — спросил Бетанкур.
— Никогда, — отвечал герцог, — они недостойны меня видеть. — Повернулся и вышел.
Бестужев был уверен, что с герцогом ему служить не удастся. Он разделял славу испанца и должен был пасть одновременно с ним. Приходилось подумывать о возвращении во фрунт, к лошадям и лошадиным офицерам. С этими не очень приятными мыслями явился он ранним утром в приемную герцога на первое дежурство. Бегали лакеи с подносами, на которых дымились чашки с кофе. Дверь кабинета растворилась, и выглянул герцог во всех регалиях и при ленте. Увидев Бестужева, вытянувшегося, чисто прибранного и ловкого, он задумался. Потом спросил медленно: