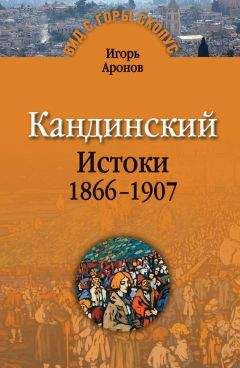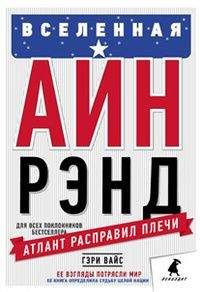Проблема отношений между красотой в природе и красотой в искусстве волновала молодого Кандинского. Он чувствовал красоту света и цвета в природе и старался передать на холсте свои глубокие впечатления от природного «хора красок» и от Москвы в лучах заходящего солнца. Открытие Кандинским «сверхчеловеческой силы» красок в живописи Рембрандта и превращения закатным светом Москвы в поэтико-музыкальный художественный образ согласуется с идеей Соловьева, что искусство одухотворяет природную красоту. Стараясь воплотить этот образ на холсте, Кандинский поставил перед собой задачу, в которой Соловьев видел высшую цель искусства, – превращение физической реальности в духовную жизнь, которая одухотворяет материю, воплощаясь в ней, но сохраняет свою свободу от материального процесса разрушения и потому существует вечно [Там же: 133– 132]. Вместе с тем Кандинский в то время считал искусство в целом и собственные художественные силы в частности слишком слабыми для воплощения природной красоты. Он должен был сам внутренне осознать одухотворяющую силу искусства, не подчиненную внешней материальной действительности, которую Соловьев сформулировал теоретически. Кандинский вспоминал:
Должны были пройти многие годы, прежде чем путем чувства и мысли я пришел к той простой разгадке, что цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, органически и мирозаконно различны – и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны [Кандинский 1918: 15].
Таким образом, уже до того как в декабре 1896 г. Кандинский приехал в Мюнхен учиться живописи, он был знаком с новыми идеями символизма, оказавшими влияние на его поворот от науки к искусству. В «Автобиографической заметке» 1913 г. он вспоминал, что в течение его последнего года в Москве, с ноября 1895 г. по декабрь 1896 г. он работал на «одном из самых больших печатных предприятий Москвы». За этот период его «постепенное внутреннее развитие» прогрессировало, он начал лучше чувствовать свои «художественные силы» и потому решил поехать в Мюнхен, «художественные школы которого высоко ценились в то время в России» [Kandinsky 1982: 343].
В течение целого года Кандинский не осуществлял своего намерения стать художником, хотя он мог задолго до декабря 1896 г. поехать в Мюнхен или попытаться поступить в Московское художественное училище либо в Петербургскую академию художеств. Это был все еще год внутренних колебаний, когда он испытал, согласно «Ступеням», три сильных впечатления, которые помогли ему принять окончательное решение. Это были впечатления от картины Клода Моне (Claude Monet) Стог сена в солнечном свете, от оперы Рихарда Вагнера (Richard Wagner) «Лоэнгрин» и от «разложения атома». О последнем он писал:
Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Наука казалась мне уничтоженной: ее главнейшая основа была только заблуждением, ошибкой ученых, не строивших уверенной рукой камень за камнем при ясном свете божественное здание, а в потемках, наудачу и на ощупь искавших истину, в слепоте своей принимая один предмет за другой [Кандинский 1918: 20].
«Разложение атома», а точнее открытие, что катодные лучи состоят из электронов, которые меньше и легче атома, было обнародовано Джозефом Томсоном (Joseph Tomson) 30 апреля 1897 г., и, таким образом, оно не могло быть важным для Кандинского в конце 1896 г. Однако это открытие поддержало его разочарование в науке.
Моне и Вагнер действительно имели большое значение для «внутреннего развития» Кандинского в конце 1896 г. Он мог видеть картины Моне на выставке французского искусства, проходившей с сентября по октябрь 1896 г. в Петербурге и посетившей Москву в ноябре того же года. Выставка включала холст Моне Стог сена в солнечном свете (1891, Дом искусства, Цюрих; см.: [Monet 1996(3): № 1288]), и, очевидно, об этой работе Кандинский писал:
И вот сразу увидел я в первый раз картину. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память. <…> Во всем этом я не мог разобраться <…>. Но что мне стало совершенно ясно – это не подозревавшаяся мною прежде <…> сила палитры. Живопись открывала сказочные силы и прелесть. <…> В общем же во мне образовалось впечатление, что частица моей Москвы-сказки все же уже живет на холсте [Кандинский 1918: 19; Kandinsky 1982: 363].
С одной стороны, Кандинского в живописи Моне впечатлила импрессионистская экспрессия художественного воплощения силы света и цвета в природе. С другой стороны, соединение Кандинским пейзажа Моне с личностным образом Москвы в лучах заходящего солнца имело скрытые причины, связанные с отношением Кандинского к черному цвету.
Вспоминая, как он рисовал в детстве «буланку в яблоках» и «страдал от невозможности» положить на бумагу черные пятна копыт, Кандинский добавляет:
Позже мне так понятен был страх импрессионистов перед черным, а еще позже мне пришлось серьезно бороться со своим внутренним страхом прежде, чем я решался положить на холст чистую черную краску. Такого рода несчастья ребенка бросают длинную, длинную тень через многие годы на последующую жизнь. И недавно еще я употреблял чистую черную краску со значительно другим чувством, чем чистые белила [Кандинский 1918: 20–21].
Импрессионисты старались передать впечатление солнечного света, используя оптический эффект от смешения красок. Они избегали черной краски в силу ее физического свойства поглощать свет, но в случае художественной необходимости употребляли ее без особой боязни. Кандинский отметил, что импрессионистская «проблема света и воздуха» его мало интересовала, потому что она относилась к «внешним средствам» искусства [Там же: 19]. Замечание о страхе импрессионистов перед черным цветом указывает на его собственные болезненные ассоциации с этим цветом, которым он внутренне противопоставлял свои счастливые переживания красочной «Москвы-сказки». Живопись Моне открыла Кандинскому реальную художественную возможность противостоять пугающей разрушительной силе черного цвета.
«Москва-сказка» связала для Кандинского живопись Моне с впечатлениями от «Лоэнгрина» Вагнера, поставленного в Большом театре осенью 1896 г.:
Лоэнгрин же показался мне полным осуществлением моей сказочной Москвы. Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешенные, почти безумные линии рисовались передо мною. Я не решался только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час». Но совершенно стало ясно мне, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка [Там же].